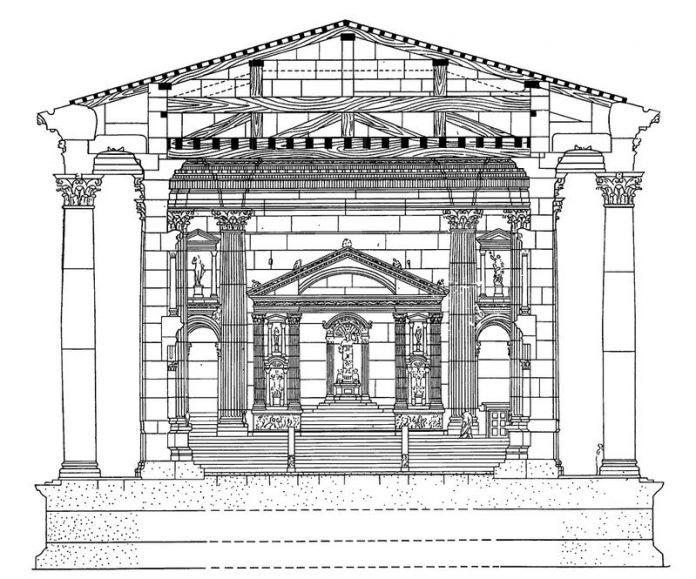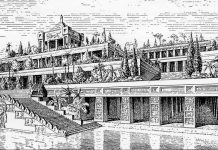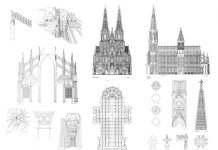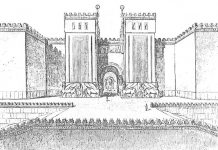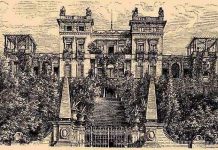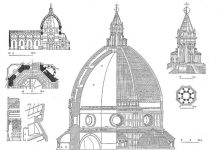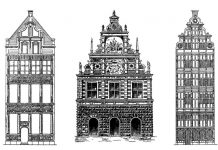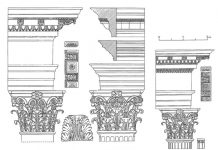Тень для Альберти — лишь одна из градаций света, и если сочетание света и тени в пространстве было условием rivievo, то и распределение их во времени должно было в его глазах лишь придавать «выпуклость» времени, разнообразить ту temporum voluptas, о которой он говорил не раз. В экседрах терм граждане «утром и вечером в свободные часы по желанию своему наслаждались то солнцем, то тенью». Окна в портике виллы должны позволять «любуясь, впивать и солнце, и дуновение ветерков, в зависимости от времени года ».
Поэтому даже когда Альберти говорил о сочетании противоположностей, то эти противоположности не вступали друг с другом в драматическое единоборство, и контраст превращался во внутреннюю связь. Особенно наглядно об этом свидетельствует следующий отрывок из трактата «О живописи»,34 Альберти как будто начинает с требования контраста: «Я хотел бы, чтобы в картине можно было видеть все роды цветов и все виды каждого рода, к великой радости и удовлетворению смотрящего. Удовлетворение это получится, когда каждый цвет будет сильно отличаться от соседнего, так что если ты напишешь Диану, ведущую хоровод нимф, пусть у одной нимфы будут зеленые одежды, у другой — белые, у третьей — розовые, у четвертой — шафранные, и так у каждой — разный цвет, но чтобы всюду светлые цвета находились рядом с другими, отличными от них, темными. Благодаря такому сопоставлению, красота цветов на картине будет более ясной и более привлекательной». Итак, наличие темного — лишь средство ясности. И Альберти продолжает: «Ведь имеется некая дружба между цветами, так что один, присоединяясь к другому, придает ему достоинство и прелесть. Розовый цвет, зеленый и голубой, будучи сопоставлены вместе, делаются от соседства друг с другом достойными и видными». Так, начав с противопоставления цветов, Альберти кончает их сопоставлением, начав с контраста, кончает их «дружбой».
На этом фоне понятен категорический запрет Альберти, сформулированный им в книгах «О зодчестве» : «Во всякой вещи приправа изящества — разнообразие, если только оно сплочено и скреплено взаимным соответствием разъединенных частей. Но если эти части одна от другой будут разобщены и будут разниться между собой разногласящим различием, то разнообразие будет совершенно нелепо». В подлиннике — режущая аллитерация: si inter se dissoluta et disconvenienti quadam dispar itate discreparint.
Августин и Боэций — эти два имени появляются на далеком историческом фоне при анализе эстетической теории Альберти. Ни того, ни другого он ни разу не называет по имени, но связь с ними несомненна, в особенности если учесть то огромное воздействие, которое и тот и другой оказали на средневековую образованность и средневековую философскую эстетику. Через них и благодаря им Средневековье усвоило элементы платонизма, поэтому, если искать уже непременно истоки «платонизма» Альберти, то именно здесь. Однако мы уже видели, что тезис о его «платонизме» по меньшей мере спорен. Не как система воздействовали на Альберти учения Августина или Боэция, а своим конкретным материалом, играя в этом случае лишь роль фермента, будящего мысль, и роль посредствующего звена между Альберти и наследием античности, так как то основное, что он у них взял, восходит к античности. «Строй» же мысли был существенно иным.
В своих блестящих «Этюдах о Леонардо да Винчи» Пьер Дюэм посвятил специальный этюд отношению Леонардо к Николаю Кузанско- му.35 Он прекрасно показал, как у Леонардо выветрились и исчезлите теологические обертоны, которые неизменно сопутствовали трактовке философско-математических проблем у великого Бриксенского мыслителя. У Леонардо отошла на задний план теология неоплатоников и «Ареопагитик», на первый план выступила сама научная проблема как таковая. Учение Августина об эстетическом единстве было тесно связано с его внутренней биографией, с его преодолением манихейского дуализма, извечных и изначальных противоположностей света и тьмы, на почве неоплатонического учения о едином. Достаточно заглянуть в его «Исповедь», чтобы понять, как тесно «пафос единства» связан с биографическим преодолением манихейства и его противоположности светлого и темного. Этого нет у Альберти. Его единое не лежит erceKEiva, «превыше ума», как единое неоплатонизма. Тот новый реальный контекст, в который он перенес отдельные взятые им элементы, придал им совершенно новый смысл. Его claritas и debita proportio существенно отличаются своим конкретным, «земным» характером от умозрительных понятий средневековой схоластики, как отличаются они и от позднейших idees claires distinctes10)
французского классицизма.