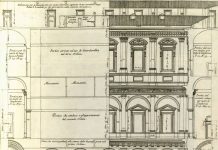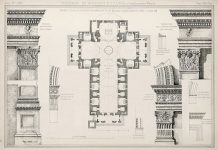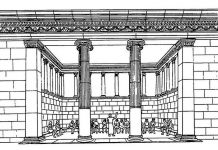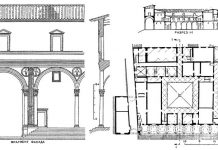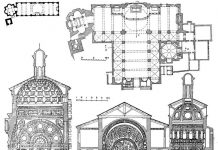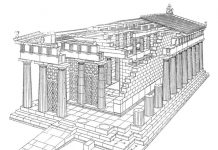В Ренессансе поэтому основное понятие — пропорции, в готике — ритм. Далее одновременное восприятие тел в едином пространстве и сравнение их друг с другом в этом пространстве делает первостепенным значение единого масштаба, которого в готике нет.96 И наконец, Ренессанс находит этот единый масштаб в человеке, ориентируется по человеку, вокруг которого все пространство развертывается как некая атмосфера, как сфера его активности.97 И вот если теперь мы заглянем опять в «Перспективу» Витело, то найдем у него и стремление соотнести тела в едином пространстве, и трактовать отношения между телами с точки зрения единого человеческого масштаба, — словом, тот перспективистический антропоцентризм и тот пространственный монизм, отсутствие которых Фрей считал характерным для готики и наличие которых он считал отличительной чертой Ренессанса.
По Витело, для познания места, занимаемого видимым предметом, требуется познание расстояния, величины расстояния и стороны света.98 Познание расстояния как такового сводится к чисто качественной констатации, что видимый предмет находится не в глазу, а вне зрителя. Познание величины расстояния основано на познании тел, упорядоченных и находящихся в непрерывной связи одно с другим : « Мы называем упорядоченными и находящимися в непрерывной связи одного с другим тела, которые расположены на какой-либо, примерно, прямой линии, на равных, примерно, расстояниях друг от друга, каковы, например, деревья, горы или высокие башни и т. п. Путем исчисления их, если расстояние между ними будет каким-либо образом известно, становится явной величина расстояния». Далее более подробно разъясняется этот процесс оценки расстояний. Первичными и как бы прирожденными человеку единицами измерения являются человеческая стопа, то есть фут, и длина распростертых рук, то есть локоть и маховая сажень. Основываясь на них, человек непосредственно и бессознательно измеряет ближайшее к нему пространство, привыкая переносить эту оценку расстояний и на более удаленные части пространства.» Что касается действительной величины видимого предмета, то для ее познания недостаточно одной лишь величины зрительного угла или одной лишь величины расстояния, а требуется познание той и другой вместе. Притом действительное расстояние предмета может правильно оцениваться лишь тогда, когда радиус глаза составляет неощутимую величину по сравнению с линией, соединяющей центр глаза и поверхность видимого предмета. На близком же расстоянии предмет кажется больше, потому что «внутренняя часть головы неспособна вместить всю величину лучевых линий и не может быть с достоверностью измерена», и оценка производится на основании зрительного угла и привычного расстояния. Эти темные слова о «внутренней части головы» ) следует, очевидно, понимать так, что в поле зрения перестает вмещаться весь предмет.
Нетрудно видеть, что к этой теории Витело приложимы все основные характеристики пространственной теории Ренессанса, приведенные выше из книги Фрея. Здесь есть и «anschauliche Erkennt- nis des raumlichen Kontinuums als eines absolut Seienden»,41) — corpora ordinata et continuata,42) pars universi как основа для определения места тела в пространстве, и «Forderung des einheitlichen Masssta- bes»,43)
— pes как minima mensura, extensiones bracchiorum, как другая мера, и «der Raum, der sich gleichftjrmig um den Betrachter entwi- ckelt»,44)
— постепенный переход от partes terrae к prosinquae partes terrae remotae. И это не могло быть иначе, потому что каково бы ни было восприятие пространства в готическом искусстве, ни одно астрономическое и геодезическое измерение не могло быть произведено без концепции пространства, которую Фрей считает специфичной для одного лишь Ренессанса. Сопоставление художественно-пространственных концепций Ренессанса с хронологически близкими теориями физического пространства у Бернардино Телезио или Пат- рицци,100 сомнительные во многих отношениях, заслоняют действительные исторические проблемы, в частности вопрос об освоении теорий ранее возникших на иной почве и под влиянием своих специфических требований, об усвоении их для новых нужд и новых целей. Но факт остается фактом. Теоретики Возрождения испытывали потребность опереть свои воззрения на тезисы Витело, автора, который a priori должен был быть «готическим».
Поэтому, привлекая при рассмотрении вопросов истории искусства материалы из истории науки, я не хотел бы быть неправильно понятым. В мнимоорганической, параллелистической концепции и наука и искусство по существу развиваются независимо друг от друга, отражая лишь общие сдвиги в «духе эпохи». Действительно уни- версалистическая постановка вопроса должна была бы, наоборот, заключаться в выяснении реальных связей, которые там подменяются спорными в большинстве случаев соответствиями. Развитие различных областей культуры отнюдь не всегда протекает гладко и безболезненно. Оно происходит не одновременно и не параллельно, различные области культуры в своем развитии реально влияют одна на другую. Должно было пройти определенное время, прежде чем паровоз или аэроплан стали предметами изображения в литературе и искусстве. Всем известно, что художественное освоение технических открытий составляет часто большую проблему и не «сваливается с неба» как плод «органически единого духа эпохи». Словом, признание истории искусства частью общей истории культуры обязывает к большему, чем к игре аналогиями.
Я не могу, с другой стороны, солидаризироваться и с точкой зрения Вёльфлина. Вёльфлин, в своих более ранних работах чрезвычайно осторожно относившийся к культурно-историческим параллелям в искусствознании, в своих позднейших трудах подошел вплотную к ним, не сделав, однако, того дальнейшего решительного шага, который подсказывался им самим. Имею в виду его понятие «художественной оптики». В своих «Основных понятиях истории искусства» Вёльфлин утверждает, что «каждый художник находит перед собою определенные «оптические» возможности, которыми он связан». «Не все возможно во все времена, — говорит он. — Зрение само по себе имеет историю, и раскрытие этих „оптических пластов» должно рассматриваться как элементарнейшая задача истории искусства».101 Вёльфлин говорит о различных «оптических» схемах, лежащих в основе различных стилей, — схемах, которые в равной мере находят отражение и в архитектуре, и в изобразительных искусствах, благодаря чему «римский барочный фасад имеет тот же самый оптический знаменатель, что и пейзаж ван Гойена». Но тот же Вёльфин подсказывает необходимость выхода не только за пределы отдельных искусств с целью сравнительного их изучения, но и за пределы искусства вообще. По Вёльфлину, устанавливаемые им основные категории относятся к «такому роду зрения, к которому могут быть причастны самые различные художники, потому что он еще не обязывает их к определенному выражению»; например «живописность и линеарность — как бы два различных языка, на которых можно сказать все возможное, хотя в каждом из них есть своя сила». Здесь Вёльфлин, считающий исследование «оптических схем», как он называет, достоянием истории искусства, вплотную подходит к « дохудожественной» первооснове искусства, к необходимости конкретно-исторического изучения тех социально-обусловленных изменчивых форм «воззрения на мир», которые можно было бы назвать «мировоззрительной» основой искусства, если бы термин «мировоззрение» и «миросозерцание» не приобрели у нас более абстрактного значения. И в этом отношении более прав Фрей, привлекающий самый разнообразный материал, вплоть до «порто- лан» средневековых мореплавателей.
При разрешении проблем подобно «культурно-исторической оптики» неизбежно обращение к целому ряду недостаточно исследованных под этим углом зрения фактов и материалов.106
Удивительным образом искусствоведы до сих пор, расшифровывая «язык зрительных форм» той или иной эпохи, того или иного стиля, чрезвычайно мало и чрезвычайно редко обращались к данным языкознания, как будто забывая о том, что любой язык заключает уже в себе целую философию зрения. Достаточно перелистать любую синонимику, хотя бы бегло всмотреться во все богатство слов и обозначений для зрительных воздействий и зрительных восприятий, чтобы в этом убедиться. И разве не поучительно, что даже отвлеченный философский язык нередко отражал явления конкретного зрительного опыта?107
Поэтому мы предпочли бы не пользоваться термином «художественная оптика» по той причине, что задачи такой конкретно-исторической дисциплины шире, чем задачи истории искусства. «Оптика» в том смысле, в каком мы берем здесь термин, является не столько частью истории искусства, сколько частью истории культуры. Она относится к истории пространственных искусств примерно так, как история языка к истории литературы. Как самостоятельная законченная дисциплина она до сих пор не создана и не разработана. Естественно, что историки искусств в интересах своей науки вынуждены были обращаться к ее разработке и столь же естественно вынуждены были вторгаться в смежные области истории науки, техники, философии, языка и т. д. Эти вылазки были далеко не всегда удачными, и все богатство материала, который должен был бы быть привлечен, исчерпано в далеко не полной мере. Однако совершенно очевидно, что подобная конкретно-историческая оптика, будучи отраслью истории культуры, должна разрабатываться методами «гуманитарных » или социальных наук и что она не может быть создана на основе игры метафорами. В ней не может быть магических формул, раскрывающих «единый дух эпохи» во всех его культурных проявлениях сразу. Борьба сосуществующих тенденций, специфичность культурных областей, равновременность их развития, обусловливающая отставание одних областей от других и реальное взаимодействие их друг с другом, делают задачу исследования более трудной и сложной.