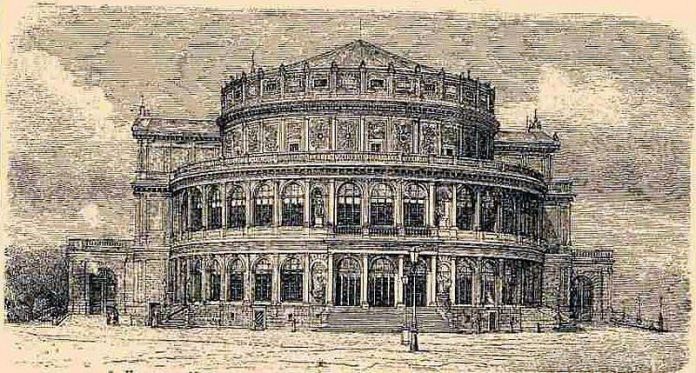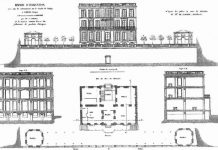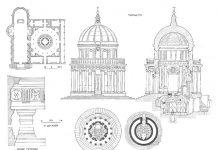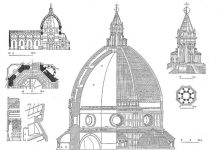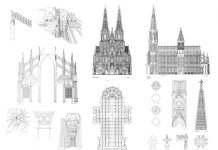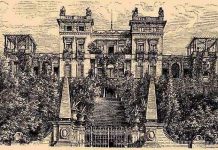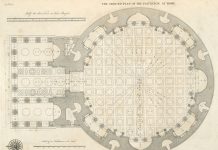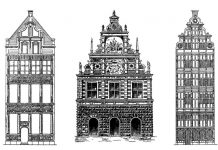Кеплер дал на совершенно новый ответ. В письме к Бренггеру он различил отражение как физическое явление и локализацию изображения, которое есть дело «общего чувства »,42 43 В сочинении « Paralipome- na ad Vitellionem» он развил теорию локализации изображений, исходя из бинокулярного зрения: мы видим изображение предмета там, где пересекаются отраженные лучи, идущие в оба глаза,44 а так как в плоском и сферическом зеркалах взаимно положение двух точек отражения разное, то и положение изображения будет разным.
Изображение действительного будет на cathetus incidentiae, «катете падения», как учили древние, но дело здесь не в нем, а в отраженных лучах, идущих к тому и другому глазу.45
Таким образом, Кеплер занял здесь позицию диаметрально противоположную оптике Витело. Если, по Витело, «потому, что так действуют природные формы, поэтому зрение их видит действующими именно так», то у Кеплера, наоборот, изображение находит свое место в той, а не в иной точке пространства «потому, что так видит зрение».
Изучение хода лучей в вогнутых зеркалах могло лишь способствовать укреплению этой позиции: от Кеплера не могло ускользнуть различие мнимых и действительных изображений. И действительно, Кеплер различает изображения как entia rationalia, то есть как предметы мысли, и изображения реальные, которые можно уловить на экран, picturae.46
Так в оптико-геометрические построения был введен психофизиологический момент не как поправка или корректив, а как момент неотъемлемый и конститутивный. Наряду с тем все более начал укореняться разрыв между чистым зрительным образом, который может быть и ens rationis, то есть чисто иллюзорным, и образом реальным — pictura, по терминологии Кеплера.
Еще одну особенность оптики Альберти следует отметить, также оттенив ее путем сопоставлений. Альберти, подобно античности, не знал еще противопоставления «оптической» и «действительной» формы в смысле противопоставления зрения и осязания. Для античности характерна интерпретация зрения как своего рода осязания; лишь несколькими столетиями после Альберти, приблизительно с эпохи расцвета барокко, укореняется противопоставление зрения и осязания. Для Аристотеля, например, зрение было своего рода «осязанием издали» ; если осязание ощущает непосредственно, то другие чувства ощущают через посредство среды, тем не менее можно сказать, что все они воспринимают с помощью осязания, но только лишь через посредство другого. То же представление — в основе античной теории лучей, исходящих из глаза. Эту теорию усвоил Витрувий, и один пример из его трактата лучше всего иллюстрирует связь зрения и осязания в подобной интерпретации. Витрувий говорит о том, что благодаря каннелюрам колонны становятся толще. «А это вызывается тем обстоятельством, что глаз, осязая большее количество чаще расположенных точек, должен обежать взором большую окружность».47 Наоборот, если мы обратимся к описаниям тех чисто барочных фокусов, которыми полны руководства XVII в. по так называемой «оптической магии», нетрудно убедиться, что их авторы с какой-то детской радостью увлекаются, как чем-то новонайденным, расщеплением зрительных и осязательных образов. Меч, дающий в вогнутом зеркале отражение перед зеркалом и разящий в ответ на замахивание мечом, призрачное отражение статуи, висящей в воздухе, которое «почти всякий подходивший ближе, тщетно пытался вновь и вновь схватить рукой, будучи повергнут в великое изумление», аналогичный опыт с горящей свечой и т. д. и т. д. — незачем перечислять все варианты, в которых неизменно зрительное «нечто» оказывается осязательным нулем.48
Наконец, с этим связана еще одна новая черта физиологической оптики XVII в. Именно в этот период укореняется противопоставление зрительного и осязательного как двухмерного и трехмерного. Лишь в XVI в. входит в прочный обиход камера-обскура,49 в которой его фикции статуи, лишенной ощущений и попеременно наделяемой одним или несколькими видами ощущения.56 В искусствознании систематически развивает противопоставление зрения и освязания в своей «Пластике» Гердер: «Глаз — лишь путеводитель, лишь разум руки; только рука дает формы, понятия того, что они означают, того, что в них живет»,57
Это различие зрительной двухмерности и осязательной трехмерности ложится у него в основу противопоставления живописи и пластики как мира «грезы» и мира «действительности» ;58 различие это становится еще позднее краеугольным камнем романтической концепции.59
Уже было сказано, что в живописи Альберти ценил наиболее ее rilievo, пластически-осязательную выпуклость изображаемых ею форм. Предметом его стремлений не было превращение зрительных образов в призрачные неосязаемые фантасмы или в двухмерную проекцию пластического объема. Перспективное двухмерное изображение непосредственно перетолковывалось в трехмерном смысле как прямое и точное выражение подлинной реальности.
В огромной литературе, посвященной теории перспективы, немало страниц уделено тому, что школьная геометрическая теория центральной перспективы, в разработке которой принимали живейшее участие мастера и ученые Возрождения, на деле не соответствует конкретному зрительному восприятию, то есть не отвечает тому требованию, которое было основным и для Альберти, и для людей его круга мысли. Указывалось, что «школьная» теория исходит из представления об одноглазом и неподвижном зрителе, spectateur borgne et immobile.60 Делались попытки создать обобщенную теорию перспективы, частным упрощенным случаем которой явилась бы традиционная школьная теория.61
Однако следует напомнить об интересных опытах и экспериментально-психологических наблюдениях Енша,62 который пришел к выводу, что так называемые перспективные искажения при известных условиях не только не являются искажениями, а, наоборот, оказываются предпосылкой для правильного восприятия вещей. Восприятие глубины является функцией, которая может быть развита упражнением в гораздо большей степени, чем это предполагалось до сих пор, говорит Енш.63 По его утверждению, мастера Ренессанса и находившийся под их влиянием Дюрер совершенно иначе воспринимали картину, чем мы,64 их восприятие Енш характеризует как «пластическое»65 и в вопросе о роли перспективных искажений прямо ссылается на Альберти, «прекрасно сознававшего, что для подобного пластического впечатления перспективно-правильное изображение является предпосылкой и непременным условием».66
Нельзя забывать также, что приемы перспективного построения Альберти еще отличались от принятых позднее и для своего осуществления требовали большей пластической тренировки, чем механические приемы позднейшего времени. Словом, противоположность «видимой» и «действительной» формы не была для Альберти противоположностью «субъективного» и «объективного», «иллюзорного» и «реального», «двухмерного», и «трехмерного», «плоскостного» и «пластического». Считаю необходимым привести здесь полностью спорный текст из трактата «О живописи», описывающий альберти- евское построение.67