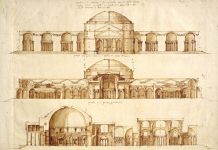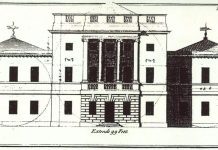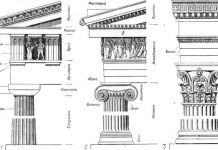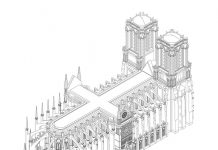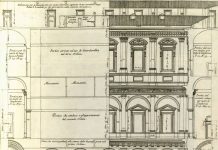Для переводчика Альберти, констатируя непереводимость или относительную, условную переводимость кардинальных терминов его эстетики и архитектурной теории. В переводе неизбежно утрачиваются обертоны значений, нарушается вся цепь ассоциаций, порождаемых своеобразием языка, на котором написан оригинал. Потому становятся совершенно необходимыми те многочисленные подлинные латинские выражения, которые введены в отрывки, цитируемые и здесь, и в других главах книги в русском переводе.
Однако хотелось бы подчеркнуть и другую, более общую и принципиальную сторону дела. Сказанное относится не к одному лишь Альберти. Изучая историю художественной теоретической мысли, мы вообще склонны недооценивать роль конкретного, исторически сложившегося языка, не учитывая того, что художественная философия sui generis уже содержится в самом этом языке. Та абстрактная «история понятия», которая культивировалась в истории философии, уделяла почти исключительное внимание логическим формам, рассматривая термины как нейтральные, условные ярлыки и вовсе игнорируя историю научного языка как такового. Ближе всего к задачам исследования в этом вопросе, как понимаем его мы, казалось бы, подходит книга Л. Олыпки « История научной литературы на новых языках ».18 Но на самом деле Олыпки преимущественное внимание уделяет не языку, как «органу мысли», не языку, как той лаборатории, где подготовляется кристаллизация научно-теоретических понятий, а лексикографии, стилистике, литературным формам научных произведений и т. д. По его собственному заявлению, он «не собирается рассматривать, какую роль играет язык в образовании и формулировании понятий и как богатство и дифференцированность его влияют на уточнение мышления».19 Между тем именно эта задача и представляется нам центральной.
Будущий историк русской архитектурной эстетики, например, несомненно обязан будет высмотреть и вычитать ту философию архитектуры, которая in mice содержится в литературных произведениях древнего периода, не оставившего ни одного систематического трактата по эстетике и по искусству. В скупых и кратких высказываниях летописей, в былинах, в памятниках русской агиографии и т. д. уже содержится определенный взгляд на вопросы искусства, определенная позиция и художественная оценка. Точно так же в любом другом случае исследователь не имеет права игнорировать конкретную языковую среду, являющуюся как бы атмосферой, в которой формируются художественно-теоретические определения. Непреходящее значение и пленительность греческой философии не заключается ли, между прочим, и в том, что язык научный неуловимыми переходами оставался связанным с народной основой живого разговорного языка: греческая наука и греческая философия — единственная наука и философия, не знавшая «варваризмов», терминов, заимствованных из других языков, этимология которых была бы непонятна греку. Вот почему в классических философских произведениях древних греков так много грамматических и этимологических рассуждений, неразрывно связанных с греческим языком и непередаваемых в переводе ни на какой другой язык без комментария. Вот почему и у Аристотеля, и у Платона в его диалогах так много технических терминов и сравнений, взятых из самой гущи древнегреческой жизни.
Идеалом Альберти был подобный же язык, «сверху донизу» очищенный от «варваризмов» схоластической научной латыни. Не шовинистическое «эллинофобство» или аристократическое «цицирони- анство» были здесь определяющими. Чуткое и вместе с тем творческое отношение к конкретному языку делало терминологию Альберти живой, а его своеобразный «пуризм» служил лишь внешней формой для чистоты мысли.
Своими писаниями Альберти хотел быть полезен своему народу, utile ai nostri. В трактате «О зодчестве» он заявлял, что решил говорить «не как математик, а как ремесленник», что «хотел быть совершенно доступным и насколько возможно легким и простым», рассматривать архитектуру, как бы беседуя в среде ремесленников». Как объяснить при подобных заявлениях, что Альберти написал свой основной трактат по архитектуре на латинском языке? Из всей настоящей главы с очевидностью вытекает вывод, к которому нам еще придется вернуться позднее : для Альберти латинский язык был не «мертвым», «ученым» языком, а языком живым, способным расти, развиваться и приспособляться к требованиям жизни. Если он писал по латыни, то лишь потому, что считал свой родной итальянский язык недостаточно зрелым для овладения всем богатством содержания и для передачи всех оттенков архитектурно-теоретической мысли. В печатном комментарии приведен ряд примеров того, как часто Альберти пересказывал античных авторов почти дословно. Перевести цитаты значило бы в большей мере удалиться от первоисточника, от подлинника. Прежде чем начать работу по адаптации содержания, нужно было объединить материал в связной обозримой форме. В мои задачи не входит подробно решить вопрос о приоритете латинской или итальянской редакции другого трактата Альберти — «О живописи». Однако многое говорит за справедливость гипотезы Яничека, разделяемой Олыпки, согласно которой латинская редакция старше.20 При том обилии античных примеров и цитат, которые имеются в обоих трактатах, трудно предположить, чтобы Альберти сначала давал их в итальянской версии и в итальянском переводе, а затем занимался их обратным переводом на латинский язык. Но это не значит также, что латинская редакция была каким-то черновым, подготовительным наброском итальянской. Латинская редакция — порождение живой мысли, протекавшей в формах живого языка.