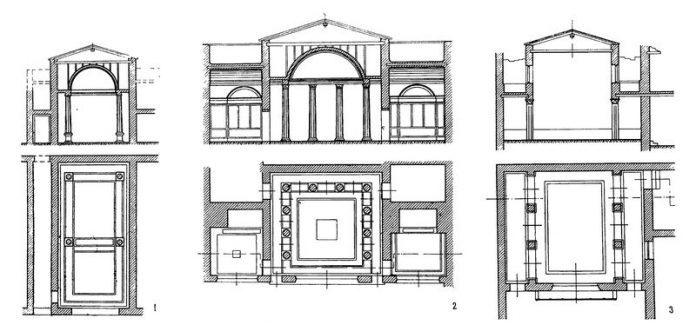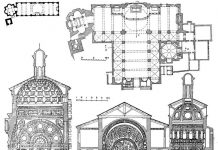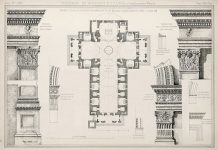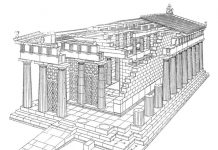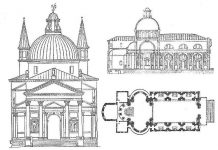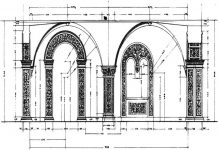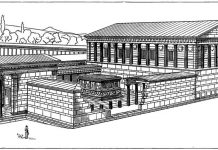Влияние Платона и Плотина на эстетическую теорию Альберти усиленно подчеркивалось Флемингом, которому следовали и некоторые другие ученые. В комментарии я попытался собрать некоторые основные аргументы против этой точки зрения.1
Прежде всего, сочинений Плотина Альберти знать не мог. Перевод Фичино появился лишь в 1492 г. Даже Флемминг, настаивавший на том, что эстетика Альберти сложилась под влиянием идей Платона, вынужден был говорить не о непосредственном воздействии этого автора, а о «веянии его духа».1 2
Далее, сопоставление эстетики Альберти с сочинениями Цицерона по теории ораторского искусства показывает, что для основных «платонических» мест Альберти могут быть подысканы в этих сочинениях ближайшие параллели: такова характеристика «идеально прекрасного» и утверждение о «врожденности» эстетического чувства, позволяющего распознавать хорошее и дурное в искусстве «без обучения и рассуждения», «сразу».
К этому после произведенного детального изучения источников «О зодчестве» следует присоединить еще следующее соображение. Альберти ссылается на Платона в своем трактате 19 раз. Скрытых цитат из этого автора в трактате не обнаружено, если оставить в стороне спорные моменты, относящиеся к эстетике. Все ссылки, за исключением одной, из «Ти- мея», имеют в виду «Законы» и касаются вопросов социально- политических или социально-философских.3 Выдержка из «Тимея» искажена, и это служит доказательством, что она получена Альберти из вторых рук. В пяти случаях из оставшихся восемнадцати мною подысканы параллельные места из сочинений Цицерона, причем в трех из них Альберти ближе к Цицерону, чем к Платону.4 Спрашивается, если Альберти называл Платона всегда, даже тогда, когда он приводил его мысли не по первоисточнику, почему он молчит о Платоне в своей эстетике, здесь не упоминая его ни разу?
Углубленное знакомство Альберти в сочинениями Платона исключается и по соображениям хронологического порядка,5 В годы своего третьего пребывания во Флоренции, а именно в 1439-1443 гг., Альберти имел возможность встретиться с греческими начинателями возрожденческого платонизма — Георгием Гемистом Плефоном и др.6
Однако в этот период знакомство флорентийцев с подлинным Платоном еще оставалось поверхностным.7 После 1443 г. Альберти, по его собственным словам, был во Флоренции гостем, редко ее посещавшим и недолго в ней остававшимся.8 На 40-е и 50-е гг. приходится первая редакция сочинения «О зодчестве», которую в 1452 г. Альберти показывал уже Николаю V.9 Именно в это время, уже в отсутствие Альберти, платонические влияния во Флоренции усиливаются. Находившийся в 1454 г. во Флоренции и занимавший там с 1456 г. кафедру греческого языка аристотелик Иоанн Аргиропул комментировал сочинения Платона. Проводником платонических идей был и Кристо- форо Ландино, научившийся греческому языку у Леонардо Бруни и преподававший красноречие во Флорентийском университете с 1457 г. Тем не менее и тогда, даже в центре возрожденского платонизма, во Флоренции, знакомство с Платоном было неполным и недостаточным. Когда молодой Марсилио Фичино в 1456 г. посвятил Ландино свое сочинение о платоновской философии, то Ландино посоветовал ему не обнародовать его, а сначала основательно изучить греческий язык и на основе новых самостоятельных занятий пересмотреть написанное сочинение.10 11 С именем Фичино связан первый расцвет флорентийского платонизма, который приходится на 60-е гг.: в 1463 г. Фичино получил поручение от Козимо Медичи перевести все сочинения Платона, и к 1468 г. была закончена первая редакция перевода. Новая окончательная редакция относится к 1475- 1476 гг., то есть ко времени после смерти Альберти.11 Появление «Эннеад» Плотина в латинском переводе Фичино относится, как уже было указано, к еще более позднему времени — к 1492 г.
Иногда называли Альберти в числе ближайших участников Платоновской академии, основанной в 60-х гг. под покровительством Козимо Медичи и возглавлявшейся тем же Фичино. О составе этой Академии дал точные сведения в одном из своих писем сам Фичино.12
Он различает четыре категории ее участников: на первом месте названы покровители, Медичи, на последнем слушатели или ученики, или ученики. Кроме того, различаются своего рода «почетные члены» Академии, которых Фичино не решается назвать учениками или слушателями и называет друзьями,1и «рядовые члены», которых Фичино называет «как бы учениками». К числу «почетных членов» отнесен Альберти, око- тором при том специально оговорено, что он не слушал первых лекций Фичино.14
Имеются основания думать, что к «почетным членам» Фичино отнес всех своих ученых знакомых, корреспондентов и друзей.15 В Академии Альберти был не столько участником, сколько почетным гостем. Если учесть, что Академия сформировалась лишь к концу 60-х гг., когда был уже закончен первый перевод сочинений Платона, и если вспомнить, что Альберти умер в 1472 гг., то возможный период наиболее сильных платонических воздействий ограничивается последними годами его жизни, когда ему было уже более 60 лет. Хотя и в это время Альберти продолжал отделывать свой трактат «О зодчестве» и хотя именно предпоследняя книга давала повод говорить именно о платонизме Альберти, трудно допустить, чтобы сформировавшийся зрелый мастер и теоретик мог радикальным образом изменить свои воззрения под влиянием платоников- флорентийцев.16
Отсутствие крепких и прочных связей Альберти с Флорентийской академией объясняет и то, почему все цитаты из Платона, как мы только что видели, ограничиваются «Законами» : хорошее знакомство Альберти с греческим языком сомнительно, а именно для «Законов» Альберти мог уже раньше располагать другим переводом, сделанным независимо от Фичино, — переводом Георгия Трапезундского.17
Имеется, впрочем, одно свидетельство Кристофоро Ландино, которое требует специального рассмотрения. В своих «Камалъдулъских беседах» он рассказывает о том, как летом 1460 г., спасаясь от жары, Лоренцо и Джулиано Медичи и с ними Аламанно Ринуччини, Пьетро и Донато Аччайоли, Марко Парен- ти и Антонио Кавиньяно укрылись в монастыре Камальдоли. Вскоре к ним присоединился Леон Баттиста Альберти, и тогда завязались те беседы, которые составляют содержание книги Ландино. «Disputationes» в первый раз были напечатаны без указания года в 1480 г., позднее в Страсбурге. Главный оратор первого диалога — Альберти, который развивает здесь мысль, что человек, который хочет заняться исследованием вопроса об управлении государством, должен сначала долгое время предаваться созерцанию идей справедливости на основе учения Платона. И в других отношениях Альберти предстает здесь более платоником, чем он рисуется на основании собственных своих произведений.18
Исторического и документального значения за диалогом Ландино, однако, признать нельзя: Ландино вложил в уста собеседников собственные мысли, и диалог следует считать литературным вымыслом, пусть даже на какой-то реальной основе.19 Наиболее убедительным аргументом в пользу этого являются его анахронизмы. Альберти в диалоге цитирует отрывок из книги Фичино «О любви» во второй редакции, относящейся к 1474-1475 гг., он заявляет, что видел у Фичино «Платоновскую теологию», законченную, хотя и не отделанную, а закончена была «Теология» в 1474 г.20 Между тем Альберти умер в 1472 г. Таким образом, и это свидетельство о платонизме Альберти приходится отвести.
Что касается Плотина, то, кроме сказанного, остается еще одно, самое существенное: основная тенденция эстетики Альберти и эстетики Плотина. Лейтмотив шестой книги первой Эннеады и восьмой книги пятой Эннеады — искание сверхчувственной, бестелесной красоты. Эстетика Плотина — умозрительная «финокалия», требующая отрешения души от чувственного мира. Эстетика и теория искусства Альберти тесно связаны с запросами и исканиями другой, новой теории прекрасного, зреющей в среде профессионал ов-архитекторов и художников. Если Альберти и проявлял порою равнодушие к вопросам строительно- или конструктивно-техническим, то «профессиональные» вопросы художественной техники, мастерства, никогда не исчезали из поля его зрения. Плотин не перестает повторять, что красота заключается не в величине или объеме, не в соразмерности или пропорциональности, а красоте неделимой внутренней формы, или эйдо- са. Для Альберти вопросы пропорциональности, числовой гармонии всегда сохраняли свое значение, как один из путей к постижению прекрасного. «Почему, — спрашивает Плотин, — архитектор, сопоставляя здание вовне существующее, с внутренней формой здания, называет это здание прекрасным? Не потому ли, что внешнее, если отрешиться от камней, есть та внутренняя форма, которая, разделяясь во внешней массе материи, остается единой, будучи зрима во многом». Эстетика Плотина не давала и не могла давать ответа на вопрос, волнующий каждого архитектора: каким же образом это идеальное единство, внутренняя форма, эйдос, идея «разделяется во внешней массе материи», каковы же те количественные формы, которые соответствуют качеству прекрасного, те количественные формы, в которые прекрасное облекается? Если Плотин требовал ухода от чувственного мира, как от обольщения Цирцеи или Калипсо, то Альберти, наоборот, не хочет, как он сам говорит, «глубоко вдаваться» в происхождение эстетического чувства и «из находящегося перед нашими глазами» обещает рассмотреть «только то, что важно для нас» ; он отказывается и от анализа самого существа красоты. Таким образом, в центре внимания Альберти, в противоположность Плотину, оказываются моменты чувственного и чувственно-пространственного воплощения художественной идеи у наоборот, отодвигаются на задний план моменты отрешенноидеального единства.
Но даже если признать, что Альберти не испытал глубокого непосредственного влияния Плотина и Платона, не могли ли «веяния их духа», по выражению Флеминга, дойти до него еще иными путямиу помимо Цицерона, у которого платоники получили «окраску римского реализма», по меткой характеристике Мишеля?
Невольно наш взгляд прежде всего обращается к представителям Средневекового платонизма и к основоположнику его — Августину. В трактовке Альберти есть одна скрытая цитата из Августина: о пропорциях ковчега и человеческого тела.21 Другая ссылка Альберти в его трактате представляет немало затруднений. Альберти ссылается на изречение Сократа, гласящее, что мы должны считать лучшей «ту вещь, которая сама по себе такова, что изменить ее можно только к худшему». Говоря о составлении архитектурного проекта, Альберти требует от него, чтобы «все в нем оказалось хуже и несовершеннее, если бы ты что-нибудь прибавил, изменил или отнял». Наконец, в эстетике Альберти утверждал: «красота, достоинство, изящество и тому подобное — такие свойства, что если отнять, убавить или изменить в них что-нибудь, они тотчас же искажаются и гибнут». Во всех трех случаях совершенство определяется как то, к чему ничего нельзя прибавить и от чего нельзя ничего отнять, не разрушив его существа. Ближайшей параллели не удалось подыскать ни в высказываниях платоновского, ни в высказываниях ксенофонтовского Сократа. Это определение совершенства — аристотелевское. Но мы можем указать ближайшую параллель и у Фомы Аквината: «Совершенным называется то, чему ничего не достает сообразно образу его совершенства — cui nihil deest secundum modum suae perfectionis»,10)
или: «То, чему чего-либо не достает, тем самым безобразно — Quae enim diminuta sunt, hoc ipsa turpia sunt».П) Возможно, именно потому, что Альберти черпал в данном случае не прямо у Аристотеля, а у Фомы, он, антикизируя, заменил имя Фомы Аквинского именем вымышленного Сократа. Если это так, приведенный выше перечень авторов, послуживших источником Альберти, следует пополнить еще именем Фомы Аквината. Но здесь приходится повторить то же, что было сказано о Плотине и Альберти: устремления их существенно различны.
У Августина, у схоластиков-платоников, у Фомы Аквината немало высказываний о пропорциях и пропорциональности, однако все они, как правило, носят умозрительно-философский, а не практи- чески-профессиональный характер. Их «пропорция» не носит количественного характера, она есть либо соответствие более общего порядка, либо «логос», «идея» вещи. Наиболее конкретным из них, пожалуй, был Августин. Так, например, в сочинении «О порядке» он говорит: «В удовольствиях, доставляемых зрением и слухом, мы признаем относящимся к разуму то, в чем проявляется некоторая размеренность и стройность. Так в этом самом здании, рассматривая внимательно частности, мы не можем не быть неприятно поражены, если видим одну из дверей поставленной сбоку, а другую почти посередине и однако же не в самой середине. Это потому, что во всяких сооружениях неправильность размерения частей, если не вынуждено никакое необходимостью, кажется как бы наносящею некоторое оскорбление самому зрению. А какое удовольствие доставляют нам при внимательном рассмотрении и какими привлекательными кажутся эти три наружных окна, одно посередине и двое — с боков, это очевидно само собой и не требует многих слов для указания вам. Поэтому и сами архитекторы называют это на своем техническом языке ratio [разумом, соответствием, пропорциональностью. — Б. 3.], и когда все части бывают расположены нестройно, то в них нет ratio».
Средневековая схоластика еще дальше ушла от конкретных вопросов художественной пропорциональности даже там, где прямо говорила о пропорциях. Так например, Бонавентура утверждал, что всякое удовольствие основано на пропорциональности, однако из дальнейших рас- суждений видно, что речь идет у него о соответствии между познающим и познаваемым.22 Точно так же у Фомы Аквината понятие «пропорция» берется не в количественном, а в качественном смысле, будучи понимаемо как «равное соответствие» ; ibid., II.1, qu. 54, art. 1 : «si vero accipiantur membra, ut manus, et pes, et huiusmodi, eorum dis- positio naturae conveniens est pulchritudo».13))
У Альберти можно обнаружить отзвуки такого общего учения о соответствии «равного равному», например, там, где он говорит, что «по горизонтали, по вертикали и по числу, по форме и по виду» даже самое мелкое должно располагаться так, чтобы «правое в точности соответствовало левому, верхнее — нижнему, родственное — родственному, равное — равному». Дальше будет подробнее сказано об аналогиях между Альберти и Августином в учении об эстетическом единстве, о красоте геометрических фигур, о различии красоты и украшения. Однако основной интерес Альберти был направлен на конкретные явления искусства, основной интерес Августина — на умозрительное учение о сверхчувственной красоте.