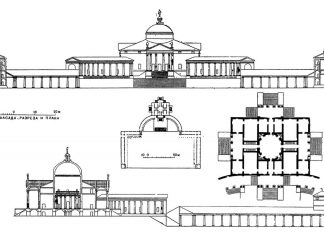Понятие архитектурная «форма» в современной профессиональной культуре стало ключевым для творческих концепций и педагогической практики. Через него транслируются на язык профессии данные, привносимые извне, из таких областей знания, как социология, психология, культурология, семиотика, инженерные дисциплины, питающие развитие творческой мысли.
Но главное — понятие «форма», подобно замковому камню арки, объединяет рационально-практические аспекты архитектурной деятельности и создание художественно-эстетических ценностей, научное знание и искусство, принадлежащее техномиру, и человеческое.
В прошлом, предшествовавшем промышленной революции, архитектура была вполне органичным соединением высокоразвитого ремесла и искусства. В Новейшее время в архитектурную деятельность все шире входит научное мышление с его теоретическими представлениями и систематизированной информационной базой, вводящее архитектуру в контекст промышленной цивилизации.
Оно, однако, не может вытеснить и заменить навыки, интуицию и талант архитектора, которые позволяют объединить сложную, синтетическую деятельность созданием художественных и эстетических ценностей, удовлетворяющих специфически человеческую потребность в красоте окружения и его смысловой содержательности, духовности.
Не стоит сетовать, что архитектуре не удается «придать вид научной деятельности», отказавшись от усвоения практического мастерства, в котором ведущей фигурой является не ученый, а «мастер, не столько рассказывающий, сколько показывающий то, что требует понимание и усвоение учеником», как то делает А. Раппапорт.
Архитектура отличается от науки, как практическая способность от теоретической, по принципу: не только знать, но и мочь. Она предполагает делание, причем не ограниченное воспроизведением знания, но направляемое свободным воображением, не только развивающим логику существующего и известного, но и отыскивающим новые логики.
Важна и специфика архитектуры, определяющая ее место на стыке материальной и духовной культур, техники и искусства. И осуществляется эта специфика через формообразующие аспекты архитектурной деятельности. Отказ от нее означал бы капитуляцию перед экспансией техномира, развивающегося по своим внутренним законам; более того, он был бы отречением от тех человеческих ценностей, которые определяют грань между homo sapiens и тем искусственным разумом, который формирует кибернетика.
Идея формы всегда присутствовала в архитектурной деятельности — начиная с той примитивной хижины, от которой, по мнению аббата Ложье, теоретика французского Просвещения, происходит архитектура (т. е. начиная с уровня сложности, который не превосходит сложности задачи пчелы-строителя).
Но строя в представлении идеальную форму, древнейший зодчий не отделял ее от содержания задачи. В. Бычков отмечал: «В Ветхом Завете не существовало ни понятия, ни термина, соответствующего греческой „форме“; форма здесь практически неотделима от содержания. Важно и значимо лишь само явление в целом, свойства этого явления или предмета, а не его пластическая реализация».
Точнее, вещь и ее предназначение в древнейших культурах не разделялись в представлении. Архитектурная форма и наполняющие ее процессы, смыслы, знаком которых она становилась, осознавались в синкретическом единстве. В описании объектов не создавались некие расчленения признаков, обособлявшие форму.
Структура описательных текстов следовала последовательности формирующей деятельности. «Древнего еврея не интересовал статический внешний вид предмета, человека, сооружения, и в Ветхом Завете практически нет ни одного описания… внешнего вида. В описаниях различных построек, сооружений, одежд у авторов Библии выступал на первый план жизненный практицизм.
При подходе к любому сооружению их прежде всего интересовал вопрос: как это сделано? В Ветхом Завете даются описания не собственно вида Ноева ковчега, скинии, „ковчега завета“, храма и дворца Соломона, одежд священнослужителей, а изображается точная, говоря современным языком, технология изготовления этих предметов и сооружений. Внешний вид неподвижных предметов как бы расчленяется во времени, наполняется динамикой и движением процесса их изготовления»6.
Характерны приведенные в Библии довольно пространные описания храма и дома Соломона. В них не выстраивается статичное отображение зданий, но под характерный зачин «И сделал…» читателю предлагается как бы взгляд на процесс их создания, переход от представления к его овеществлению в материальном объекте. Динамичность описаний не случайна: форма оставалась открытой, динамичной, не выпадающей в статичный осадок из потока деятельности, а существующей в этом потоке.
Любое здание — хижина, дом, дворец, храм — не замыкалось в некую «вещь в себе», внутренне завершенную, неизменяемую; оно было частью жизни в ее динамичном развертывании. Строительная деятельность, формировавшая здание, могла приостановиться, но как только возникали новые потребности, требовавшие оформления в пространстве, она возобновлялась. Здание беспрерывно трансформировалось — изменялось, наращивалось пристройками, наконец, уничтожалось.
Через подобный этап развития проходили все культуры. Впрочем, и за его пределами открытая форма, оттесняемая на периферию культуры представлениями о завершенности («совершенстве») формы, сохраняла свое бытование. Вспомним историю императорских дворцов Петербурга и его пригородов, проходивших через полувековой период непрерывных весьма решительных трансформаций, остановленных лишь на перестройках Растрелли, завершившего переход российской архитектуры от Средневековья к Новому времени.
Разраставшимся комплексом оставалось русское крестьянское жилище (до тех пор, впрочем, пока крестьянство России сохраняло свою социальную динамичность и свою культуру). Представление о форме в архитектуре как процессе развития, который длится, приостанавливаясь на определенных этапах, и возобновляется вновь, процессе, который допускает повторения, подобные повторению формы танца, сохранила поныне японская культура.
Открытость формы к дальнейшему развитию в ее представлениях естественна. И почти полтора тысячелетия длится процесс возобновления и повторяющегося ритуального уничтожения (через каждые два десятилетия) главных святынь религии синто — храмов в Исэ.
Типу сознания, познающего действительность не в созерцании, но изнутри самой жизни, эллинский мир противопоставил логическое мышление как основу интеллектуального познания, созерцающего жизнь как бы извне. От ее потока отделяется постоянное, устойчивое. Деятельность направляется неким первообразом, парадигмой, оставляя результат, покоящийся в своей материальности.
В античной диалектике чувственно-материального космоса материя была становлением и несла множественность, форма — устойчивой категорией, вносящей в материю единство. Формообразующая идея, которая организует материю, стала принципом зрелой классики . Категория формы толковалась в контекстах деятельности. В ней укреплялась нормативная природа.
У Платона материя — «начало внелогическое, внеэйдетическое, сплошь текучее и непостоянное, в полном смысле иррациональное». Идею Платон начинает мыслить как образец для реальных вещей и существ; в совокупности с материей идея оказывается порождающей моделью. Единая логическая конструкция идеи может проявляться в различных формах («морфе»).
Форма у Платона восходит к идее, трансцедентной вещи, пребывающей независимо от нее в мире идей. Трудная для постижения, всплывающая и тонущая во многословии диалогов, мысль Платона вместе с тем отражает реалии ремесленного труда, в котором ремесленник организует косную материю и создает вещь, руководствуясь каноном, который несет традиция — бытующая в сознании, передаваемая от мастера к мастеру, или закрепленная в неких моделях — описаниях, рисунках, образцах.
В своем учении о форме (которую он обозначал как «эйдос») за Платоном следовал Аристотель, также использовавший термины и понятия ремесленной деятельности, дополняя их понятиями, исходящими от представлений о живом, органическом мире. «Материя без эйдоса есть только пустая возможность, абстрактная возможность существования чего-нибудь.
Эйдос же без материи есть только умственный или логический принцип, хотя и данный в уме интуитивно. Но еще никак не существующий материально…» Эйдос понимался и как причина самой вещи, и как ее цель. По Аристотелю, этот принцип действовал как в природе, так и в искусстве, с той разницей, что в природе она и есть действующая сила, в искусстве же действующая причина — художник — вне создаваемого, вне материи — «план дома находится не в камне, кирпиче или дереве, а в голове архитектора, и лишь потом этот чисто идеальный план воплощается в материале».
В современные европейские языки и в философию Нового времени слово «форма» (близкое к греческому «морфе») вошло через латынь, где оно уже в I в. до н. э. встречается у Цицерона. В латинском языке среди его многочисленных значений утвердились и те, что важны да я образования смыслов философской категории и для понятия «архитектурная форма», вошедшего как в теорию архитектуры, так и в профессиональное мышление.
Латынь, впрочем, это слово для обозначения архитектурных форм не использовала (что показывает текст трактата Витрувия). В образование современного термина вошло также значение греческого синонима «эйдос», что расширило сферу его значений, определив пересечение со значениями понятия «идея».