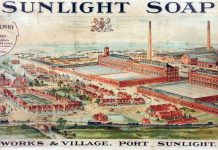Стратификация в привычном смысле — это иерархически- послойное расположение социальных групп (страт) по признаку неравенства в доходах, уровне образования, объеме власти и профессиональном престиже. В нашем непривычном и частном случае стратификация — это набор графических реконструкций пропорционального строя западного и восточного фасадов Парфенона, выполненных на протяжении последних полутораста лет разными учеными. В принципе, каждый из них видел рождение пропорций Парфенона либо из духа египетской математики, либо из духа греческой математики, либо соотносил их с построением человеческого тела. Это — стратификационный принцип.
Всякий античный архитектурный ордер, являющийся главным носителем человечески-телесного начала и претворявший посредством архитектурной формы образ монументализиро- ванного человека-героя или богочеловека (Н. И. Брунов, А. Ф. Лосев), характерен тем, что, во-первых, греческий зритель устанавливал соотношение между своим телом и стволом колонны. Во-вторых, колоннада классического периптера (пространственного тела, «со всех сторон оперенного [колоннами]») оказывается сферой творческой деятельности того же человека.
«Галерея периптера, возможная только на основе человекоподобного греческого ордера, несет в себе зародыш идеи этажа, которая получила окончательное художественное оформление только в Ренессансе» (Брунов 1935-6). В-третьих, классический греческий ордер подчинен человекообразной шкале размеров, в-четвертых, опирается на единство масштаба (в греческом храме нет размеров, в нем есть масштаб, — подметил А. Г. Габричевский). Наконец, в-пятых, в греческом периптере интеллигентными и художественными средствами осуществляется мо- нументализация человеческого тела как выражение духовной мощи человека.
На представленных чертежах мы видим разнообразие поиска ответов на третью означенную выше позицию: как соотносится греческий ордер Парфенона с человеческой шкалой размеров и не соотносится ли он, помимо этого, с чем-нибудь другим: абстрактно-математическим?
Вглядываясь в представленные реконструкции, следует заметить следующее.
Во-первых, разнообразие и несовпадение графических реконструкций пропорциональной системы Парфенона на протяжении последних полутора столетий свидетельствует о стремлении ученых доказать имманентную включенность математической строгости в конкретный материал трансцендентных явлений античного мира.
Что этот исследовательский процесс носит характер «навязываемое», говорит о желании проникнуть в сущность молчаливо-мраморного, дошедшего в развалинах архитектурного объекта при помощи посоха и фонаря. Диоген таким образом искал человека, в том числе своего современника, наш ученый в клубящихся потемках древности тщится сыскать ответ на вопрос, как этот человек, будучи творческим, закреплял пространственное мировоззрение на земной поверхности при помощи косной формы. Здесь «посох» — мерная трость и пропорциональный циркуль античного зодчего.
Во-вторых, разнообразие возможных подходов является следствием разнообразия типов математической редукции: к одному и тому же результату можно прийти разными путями, каждый из которых оказывается оправданным, обоснованным и, стало быть, научно корректным. Это — явление новоевропейского мышления, едва ли присущее древнеевропейскому. Оказывается возможным отталкиваться и от «Канона» Поликлета, и от пропорций тела человека «вообще», зафиксированных античной скульптурой, и от геометрических абстракций золотого сечения (с его производными), которые в основании все равно составляют единство природы видимой и природы мыслимой.
В-третьих, палитра вариантов реконструкции пропорционального строя Парфенона (следует настаивать, и других античных храмов) является продуктом разнообразия творческого подхода античного архитектора (Фидий, Иктин, Калликрат), совпавшего с аналитическим подходом современного исследователя.
Потому, вероятно, следует вести речь не столько о наиболее удачной реконструкции того или иного автора, сколько о разносторонних попытках постигнуть метод «архитектурного производства», который, приводя к очевидному результату (Парфенон), мог базироваться на разных технологических и технических посылках. Глагол прошедшего времени «мог» — сердцевина проблемы, обтекстовываемая вопросами: как? почему? для чего? и т. д. Ответ на нее дается формально-графическим путем.
В-четвертых, комплекс реконструкций позволяет вести речь о некоей «математической поэтике» античной архитектуры в дополнение к ее герменевтико-семиотической поэтике: в каждом из предложенных решений очевидна разность творчески-мате- матической сноровки архитектора (И. В. Жолтовский, И. Ш. Шевелев, Г. М. Скуратовский) и архитектуроведа (Й. Дурм, Л. Тирш, В. Вольф, Н. И. Брунов, Дж. Хэмбидж, Э. Мёссель). Архитектор мысленно выстраивает свой Парфенон «по мотивам» существующих обмеров, архитектуровед накладывает на них возможную математическую сетку.
И, наконец, в-пятых, мозаика пропорциональных реконструкций указует на концептную близость мышления античного человека и человека Нового времени в принципах создания гармоничного материального объекта. На наш взгляд, наиболее близко к вопросу реконструкции пропорций храма Афины Девы подошел академик архитектуры И. В. Жолтовский, который хотя и опирался на знание корпуса возможностей египто-греческой математики, как и некоторые другие (П. Георгиадис, Г. Д. Гримм, Н. П. Тищенко), но подходил к решению с позиции разработанной им «второй производной золотого сечения». Этот прием оказывается поразительно созвучным как общему античному представлению о пропорции, ставшему классическим, так и методу собственной работы Жолтовского-архитектора.
Вероятно, число метрических реконструкций Парфенона может быть увеличено: сколько людей, столько и мнений. Характерно же то, что античный храм как целостный организм, сродни божественному и человеческому, позволяет надевать на свое тело слоистый «пропорциональный костюм» какого угодно покроя. К самому телу это, согласитесь, не имеет отношения, а мода — даже научная — явление изменчивое.
Принцип, в соответствии с которым одни древнегреческие божества изображались скульпторами в облачении, а другие нагими, и будто бы к первым относились изваяния богинь, а к вторым — богов, — этот принцип нестойкий и нестройный. Во- первых, потому что в разных местностях и в разное время богов каждый раз изображали по-разному, и специального иконографического канона, по-видимому, не было.
Во-вторых, сами древнегреческие скульпторы были законодателями такой теоиконографии, и не особенно стремились подражать друг другу: каждый стремился «не быть конюхом». И хотя О. Ф. Вальдгауер настаивает, что «аристократическое общество создало весьма узкие рамки свободному художественному творчеству и наложило свою печать на стиль эпохи» [Вальдгауер 1923-в, с. 9], едва ли труд разработки божественных образов почил на ком- то другом, кроме художника. О скульптурном каноне, как известно, может идти речь только в случае пропорционального выражения пластики человеческого тела: мужского — «Канон » Поликлета, женского — «Афродита» Праксителя. В-третьих, хотя сохранившиеся скульптуры богов довольно многочисленны (249 изображений с VII в. до н. э. по IV в. насчитали А. П. Чубова, Г. И. Конькова и Л. И. Давыдова [Античные 1986, с. 93]), их именная атрибуция в пределах классического времени (VI—IV вв. до н. э. — 61 скульптура) едва ли может быть признана окончательной.