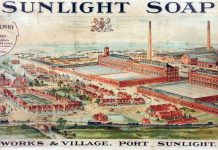Античная архитектурная форма может быть рассматриваема не только как онтологическая повседневность. Следует высянить граничные корреляции между бытием античности и античностью, антикварностью, археологичностью бытия как человекообразного инобытия всякой архитектурной формы.
Если лик, еп face бытия, явленный сознанию, есть в конечном счете пространство человеческой деятельности (данной ему как переживание, рефлексия себя как самости), причем такое пространство, которое эстетизировано в выразительной форме как форме проявления, — то профиль бытия — собственное лицо архитектуры.
Чтобы разобраться, я вынужден зайти несколько издали. Мартин Хайдеггер (в конце 1920-х), сам, похоже, не замечая, занялся разрисовкой, даже раскраской этого портрета, оставив читателю умственную забаву прописывать контур изображенного самому. Его трактат «Бытие и время» (1927 г.) — пристально обтекстованный зрачок человека, отпечатанный на «циферблате» сознания. Причем, и зрачок, и сам человек даны в режиме наличного присутствия.
И потому, по Хайдеггеру, проблематика греческой онтологии «должна брать свою путеводную нить из самого присутствия». — «Присутствие, то есть бытие человека, в расхожей равно как в философской “дефиниции” очерчено как soon logon ebon, живущее, чье бытие сущностно определяется способностью говорить» [Хайдеггер 1997, с. 25].
Однако это «присутствие» на самом деле — культурная детерминированность кодов распознавания: она обнаруживается, когда мы беремся сравнивать в разных культурах конвенции визуальной репрезентации. Например, для европейской культуры окапи, зебра и гиена — животины экзотические, и необычны они по сочетаемости характеристик четвероногости и полосатости; а для африканской культуры зебра и гиена не экзотичный, а довольно распространенный вид четвероногих, и потому код их распознавания у африканца иной, нежели у европейца.
Так, для англичанина или китайца материальные остатки эллинских храмов имеют одну культурную детерминированность: «это древняя Греция», для грека или итальянца — иную: «это наше прошлое». Для западно- и восточноевропейского мировосприятия, конечно, в отличие от индуса или японца, культура античного мира — своя культура, это корни, питающие нашу современность.
В этом случае «классификация мира», встроенного в язык, — это бесконечное число элементов повседневного опыта, которое сводится к ограниченному количеству идей, их породивших. А. Р. Усманова, изучавшая творчество У. Эко, утверждает, что если что-либо нами все еще воспринимается как естественное, предшествующее процедуре кодирования, не тронутое конвенцией, то это еще не значит, что код отсутствует: это всего лишь означает, что мы покуда не готовы распознать и проанализировать коды репрезентации.
«Таким образом, — подчеркивает автор, — таинственность похожести, аналогичности изображения обозначаемому предмету реальности обусловлена процессами кодирования, которые 1)коренятся в механизме восприятия, 2) детерминированы культурой и традицией». Если в этой книге я стараюсь выявить и показать корневую систему мировосприятия древнего эллина (и римлянина) через выяснение его отношения к созиданию архитектурной формы посредством современного обращения не столько к этой форме, сколько к ее историко-культурному контексту, — значит, стремлюсь выяснить механизм восприятия эллином (и римлянином) своего времени при помощи попытки проникновения в языковой и пространственный код его культурного пространства.
В этом, пожалуй, и заключается раскрытие «таинственности похожести», которую каждый европейски вышколенный человек исподволь стремится обнаружить, проводя исторические и культурные параллели между своей и чужой «современностями».
В предыдущем изложении я постарался закрепить подтверждение старой мысли об оро-акустической специфике греческого письма (вслед за М. Л. Гаспаровым и С. Л. Утченко), порожденного и замешенного на говорении, на слове звучащем. Здесь же попробую показать, что «античное толкование бытия сущего» ориентировано на мир, соответственно, природу в широком смысле, и что оно по сути дела получает понимание бытия из времени.
Сущее в его бытии схвачено как пребывание, то есть оно понятно в виду одного определенного модуса времени — настоящего. После удостоверений Хайдеггера становится очевидным, что присутствие бытия может быть представлено сущим само по себе, в силу невозможности мыслить нечто вне его присутствия в сознании.
Любое присутствие есть бытие, предъявленное сознанию сущим, но и всякое бытие дается в качестве присутствия лишь в некоторой форме, происходящей из сущего в бытие и потому формующей это сущее в некоем теле бытия, имеющем архитектоническое устройство. Это понятно.
В чем же состоит предельная форма выразительности бытия, где находится то предельное тело, которое приводит природу реального и природу идеального к одному целому, к существованию, источнику, из которого они вместе возникают?
Слово, которым мы задаем себе эти вопросы, оказывается тем выразительным элементом, который приводит сущее в сознание бытия. Сущее приходит в сознание словом.
Потому древний грек столь большое значение придавал звучащему слову, работающему как принцип присуществленно- сти сущего сознанию, а не слову письменному, которое передает смысл бумаге, где звуковой элемент утрачен. В слове, приданном бумаге, сущее выказывает себя сознанию как историческое, дается в форме истории смысла и истории слова, которым этот смысл фиксирован, присуществлен сознанию, и тем самым историзирует его активность, онтологизирует ее, нагружая обязанностью быть причиной бытия, причиняя ее бытию как присутствию.
Этим в первую очередь и занимается тот раздел, скажем, литературоведения, который ведает искусством поэтики. Не устаю подчеркивать, что теория и история архитектуры — это околоархитектурная, сиречь текстовая дисциплина, которая по этой веской причине прибегает к методам поэтики, заимствуя их из литературоведения, и приходит на этом пути к самостоятельно значимым результатам.
М. Хайдеггер заметил, что в конкретном исполнении речь имеет характер говорения, голосового озвучания в словах (что предшествовало, разумеется, слову письменному, или — по С. С. Аверинцеву — «записанному слову») — «logos есть/о- пе, а именно fone met a fantasias — озвучание голосом, при котором всегда нечто увидено» [Хайдеггер 1997, с. 32-33].
Не что иное, как логос, выразительность коего пребывает в слове как бытии сущего (и его конструкции), приводит сущее, во-первых, к видимости (а видимость ведь может быть и ложной1), во-вторых, — к бытию как выразительности, и потому — к присутствию эстетического.
Для архитектурной формы в античности именно в присутствии эстетического выражает себя ценность ее пространственного бытия, которое посредством выразительности «формулирует» архитектурную форму в качестве сущего, как произведение природы: посредством придания человеку способности творчества и выявления в нем этой способности через деятельностный момент.
В Греции эта специфика носила «ведический », то есть всеобщий характер, проявляясь в звучащем слове, которое было и сущим, и бытием. Мифический Пан, являясь сознанию, наводил на людей ужас страшным видом, вызывая «панику», и это — высшее проявление эстетизации бытия в слове: дальше выражения чувства слову двигаться некуда.
Это — основная работа звучащего, опоэтизированного слова, предельная его «работа». Посредством слова сущее приводит бытие к эстетическому присутствию, эстетизируя самое себя как именно сущее. И потому присутствие бытия в сознании никаким иным образом, кроме телесной массы кажимого смысла (оформленного, отлитого в форму слова), не может быть эстетическим. Архитектурная форма — «снятая», материализованная форма технологически «сказанного».
Слово — масса эстетического в сознании. Вес эстетического — присутствие бытия как кажимости сущего, явленного сознанию мерой эстетического (сколь бы абсолютный характерны носило эстетическое само по себе). Эстетическое присутствует в бытии словом, и потому бытие имеет эстетическую ценность благодаря выразительной кажимости сознания, поскольку бытие дано человеку 1) непосредственно 2) в качестве образа. Этот образ — не только образ человеческого инобытия, но и некий абсолютно сущий образ, в отношении которого сам человек оказывается инобытием.
Иначе говоря, то, что принято наименовывать средой по отношению к деятельностным и вообще онтологическим проявлениям человека, создает требуемые пространства и, стало быть, бытийные ограничения для этих человеческих проявлений, — есть не что иное, как подлинно человекообразное инобытие, данное ему непосредственным образом.
В сложении этого образа архитектор участвует, и оставаясь самим собой, и становясь, по удачному выражению Г. 3. Каганова, «всеми остальными». Таким образом, среда, в которой человек «любит и страдает», выказывает человеку своим образом его подлинное инобытие, для пренебрежения которым нужна малость: перестать быть человеком.
Образ среды возвращает в человеческую «камеру сознания» (Хайдеггер) самого человека как некую онтологическую добычу. То есть образ среды как наличное бытие сущего провоцирует человека к познанию (осуществлению волевых актов выхода из себя и возвращения в себя-другого) своего инобытия, или, в снятом виде, — собственной онтологии, иначе — как выразился Хайдеггер — своего «онтологического присутствия».
Ведь познание есть «бытийный способ бытия-в-мире» [Хайдеггер 1997, с. 61]. Образ среды эйдетичен, дается сознанию в своем выглядении, и требует описания, которое непременно (в силу присутствия) притирается к сущему, чьим подлинным выражением и является человеку образ его инобытия. Человек есть инобытие среды в той же степени, в которой среда есть инобытие человека: они равновелики.
Человек как одновременно инобытие духа и природы, и их порождение (от них отчужденные индивидуальность и социальность), — посредством же духа и природы возвращает себе пространство жизнедеятельности и жизнепроявления. Стоит утверждать, что истинное бытие — это печать, которая накладывается идеями на материю (Федр 75 d), но для понимания этого бытия в качестве эмпирического необходимы условия, сами эмпирическими не являющиеся.
Иными словами, архитектурная форма, сформированная человеком «по своему образу и подобию» (и для реализации этого «образа» в его «подобии»), не проявляясь в грубо эмпирическом смысле, не довлея над постигнутым этой формой пространством, — оказывается вне-эмпирическим, эйдетическим условием формулировки человеческого инобытия как его выразительной непосредственности. Тем самым — архитектурно и деятельностно.
Таким образом, идеальность архитектурной формы проявляется как представленная в вещи форма общественно-человеческой деятельности или, иначе, — как форма деятельности, представленная в виде вещи и предмета. «Форма вещи, созданной человеком для человека, поэтому и есть тот прообраз, на котором воспитывается, возникает и тренируется культура силы воображения» [Ильенков 1984, с. 260]. Именно сила воображения ставит архитектурную форму в отношение к человеку как его естественное инобытие.
Создание сакральных сооружений, на главенствующем положении которых в истории архитектуры начиная с доисторического времени настаивал А. Г. Габричевский (менгиры, дольмены, мемноны, кромлехи сакральны par excellence), являлось естественной человеческой потребностью, нацеленной на закрепление на земной поверхности ценной для человека сферы его деятельности.
Их содержание до сих пор остается рационально необъяснимым. (Помните, сколь трудно было преодолеть С. А. Жебелёву традицию утверждения лишь отчасти сакрального характера афинского Парфенона?) Всё это как элементы фиксации содержания деятельности человека не может не навести на мысль, что 1) архитектурной формой оформляются не только прагматизированные, но и отвлеченные проявления бытия человека, 2) наивысшую степень художественного раскрытия этого инобытия в архитектурной форме удается фиксировать именно в сакральных сооружениях, в постройках, посвященных якобы отвлеченному, по фактам существования которого преимущественно и обозначаются эпохи «становления человеческого духа в форме зодчества».
Видимо, Габричевский имел в виду сакральную форму зодчества, вслед за Гегелем утверждая, что история архитектуры суть запечатленное в ставшей форме развитие человеческого духа. Исходя из этого, можно предложить следующую цепочку развития идеи архитектурной формы (и ее изучения): человеческий дух — материализация сакральных проявлений человеческого духа — история архитектурной формы.
Что являют нам эллины и римляне в названном круге вопросов?
Так, храм должен быть воспринимаем как отчужденный элемент мифологического сознания, присущего «древнему » греку, причем в том самом смысле, в каком его жилище является отчуждением общественной деятельности в системе повседневности. В теле храма античный человек отчуждал не только родовую сущность божества, взятую как мифологический политипаж, но и собственную способность мышления этого божества (помышления о божестве).
Он наделял миф телесностью и фигурностью, помимо которых идеальная реальность не может быть постигнута в качестве материально устроенной конкретики. «Древнегреческое мироощущение, — повторим за Лосевым, — есть узрение и осязание мира как тела» [Лосев 1993-6, с. 84], и тела — как мира, да и само «бытие для греков есть храм, или дворец, наполненный статуями…, ибо … человек есть не что иное, как статуя» [Лосев 1993-6, с. 87].
Если выше я пробовал обосновать, что колонна греческого периптера — предельный символ выражения тектонической построенности всякой идеи, то храм в том же смысле может быть рассматриваем как предельное выражение и олицетворение отчужденной абстрактной деятельности человеческого сознания, способного порождать ту или иную телесную форму, — идею и вместе с нею тело божества.
Язык, которым, обволакиваясь в слово, пользуется идея, дабы выказать себя человеку, и который человек создал, чтобы дать идее возможность выказывать себя, и идея сама по себе как нечто, являющееся «беспредпосылочным началом», выказывающим себя сознанию в качестве некоторой телесно сложенной и словесно выраженной формы, — невозможны помимо наличности для них некоего «жилища» (вместилища, обиталища), которое оберегает вечный непокой сознания и свободу идеи от беспредметности, бесформенности и гибели. Это жилище — эллинский храм.
Если Лосев сначала доказывал, что, по Аристотелю, каждое художественное произведение не есть сама действительность, но некоторого рода выражение действительности, позже он убедился, что логика самого выражения не является точной и формально обоснованной логикой действительности. «Она потому и является логикой действительности, что она не есть логика чистого разума…, но есть логика … топологическая…
В художественном произведении эта топологическая логика есть не что иное, как эстетика развертывания сюжета» [Лосев 1975-6, с. 719]. Таким образом, и архитектурная форма как особого рода художественное произведение есть и действительность, и выражение действительности, и объект, и рефлектированное, материализованное понятие об объекте, и в области архитектуроведческого письма может рассматриваться только с позиций эстетики развертывания ее сюжетов: деятельностных, специально проектных, оценочно-охранительных, поэтологических.
Среди этого ряда только первое и последнее утверждения позволяют приблизиться к более или менее адекватному представлению об архитектуре древнего (в частности, античного) мира, поскольку исследуется не столько архитектурная форма, сколько ее социально и художественно окрашенный эйдос (чувственная форма эстетического предмета), который реконструируется исследователем, опирающимся на миродержавный эллинский космос нашего о нем знания.
Как никакой иной символ материальной культуры человечества, именно греческий храм позволяет заключить о себе — сгустке духовной жизни эпохи — как о некоем предельно выразительном и категориально значимом символе единства предельного же состояния пластического языка античного художественного мышления и телесной идеи, этим языком вымолвленной пространству греческого полиса.
«Ни у одного народа, — пишет В. В. Розанов, — всецелое увлечение внешним миром не выразилось в такой яркой, вполне законченной — до художественности — форме, как у древних греков. Всеми силами души… они погружены были во внешний чувственный мир, смотря на земную жизнь как на законченное целое, и почти совсем не задумываясь о жизни вечной» [Розанов 1990-6, т. 2, с. 23]. Видимо, они чувствовали, что чем более чистыми и откровенными будут в своих жизненных порывах, тем дольше окажется их «посмертное» духовное движение. Древний грек знал, потому что чувствовал, — христианин верит, потому что знает.
По Гегелю, если архитектура эллинов дала истории пери- птериальный храм, а скульптура — статую, нечто третье должно было дать общину, предстоящую этой статуе в храме, ту внутреннюю и индивидуализированную духовность, которая, не будучи абстракцией, не является уже просто духовной телесностью, но чем-то значительно большим: материальной общностью коллектива. Лосев заговорщицки обратил внимание, что музыка греков «гораздо ближе к Фидию, чем к Баху и Бетховену (неужели! — А. П.).
Грек и здесь продолжает как бы ощупывать статую, хотя, казалось бы, столь бестелесное искусство, как музыка, очень мало дает к этому оснований » [Лосев 1993-6, с. 81]. Напротив, не что иное как музыка и способно дать к этому основание. Вероятно, более верного основания для созидания на нем архитектурной формы трудно представить, а тем более «подложить» архитектурной форме.
Кроме того, музыка, не сопровождавшаяся пением или танцем (хотя бы военным!), у греков — редкость: апокинос, пиррихий и при- мий — военные танцы, которые были сродни ритуальным (например, вакхическим) и сопровождались музыкальным исполнением. Архитектурный контекст для этого был не только обязателен, но имел, пожалуй, ведущее значение.
Вероятно, пластическое бытие идеи дало основание В. С. Библеру считать, что «колонна Парфенона сказана жителю Афин», поскольку она, как и самый Парфенон, — результат человеческого действа и человеческого жеста. А еще больше — результат античной мифологической речи. «И если непосредственные трудовые действия в их направленности на предмет воплощены в камне, металле, злаках, то “сказание”, “сага” этих действий только подразумевается, эти действия существуют в живом процессе общения, они молчат о своем “сказании”; их … речь мыслится… как нечто радикально неинформационное» [Библер 1990, с. 242]. Обратимся к примеру.
Подтверждение допустимости рассмотрения и понимания архитектуры и как 1) некой всеобъемлющей бытийной формы, целокупно выражающей человеческую деятельность, и как 2) непрерывный процесс волевой организации человеком инобытия, находим в реконструированных пра-формах первичного языкового состояния («пра-языка»), в частности, в терминах мир, земля, поселение, жилье, которые приведены Ю. Л. Мосенкисом.
Автор, пользуясь внеязыковыми интерпретациями (прибегая к данным, сохранившимся помимо языка), приходит к любопытным выводам. И хотя его заключение, что, «представляя себя, свое племя, свою территорию центром, древний человек соотносил с собою представления о жилье, поселении, мире» [Мосенкис 1997, с. 157; курсив мой], кажется несколько размытым (чьи именно представления он «с собой соотносил»?), суть вопроса ухвачена верно.
И если со специальной задачей Ю. Л. Мосенкис виртуозно справляется, утверждая, что понятия поселение, жилище, территория связаны с названиями человеческих объединений, и что все они, в том числе и понятие мир, имеют структуру, отвечающую структуре слов со значением круг (вспомним легенду об основании Рима «по этрускам»), и этих выводов для целей его исследования достаточно, — в архитектуроведческом аспекте приходится двинуться чуть дальше.
Поскольку языковой материал дает основание для таких выводов, нужно полагать, что в понятиях жилье, поселение, территория и даже мир основанием является не столько представление о круге, сколько представление человека о конкретной форме протяжения его деятельностной сущности, его «жестикуляции», его бытия (рефлектируемого в форме инобытия), граничности его сознания (с одинаковой силой простирающегося в разные стороны), наконец, о некой шарообразности как границе восприятия человеком чего-либо.
И понятие о такой шарообразности, отпечатавшееся в языке, будучи распространенным на «строительный» аспект, дает возможность заключить о разумении архаическим жителем онтологического бытия в качестве некоторой предельной мыслительной формы. Форма такого понимания — уже архитектурная форма в разнообразном множестве условий ее материального воплощения. Это тем более хочется подчеркнуть, принимая во внимание устойчивые формы выражения в языках мира, что лишний раз свидетельствует о «всенародном» значении круга или шара как понятий, коррелятивных понятиям и бытия, и его границ.
Может быть (как это делает В. С. Библер), и вправду стоит признать за речью колонн Парфенона нечто «радикально неинформационное», — ведь они упорно молчат о себе, не выказывая ничего иного, кроме самих же себя: колонна — колонной.
И лишь вступая с нею «в диалог», можно утверждать, что мы начинаем понимать ее работу, проявленную в воздействии на нас, более того — в диалогическом воздействии, в котором ты играешь первую роль, и которое только тобой инициируется. Так, всякое явление будет мертво, если к нему не обращен вопрос, если оно не «вступило» в диалог: книги, которые не читают, мертвы.
Они существуют подобно мумиям, имеют тело, структуру-тектонику, но остаются как бы помимо жизни. В этом смысле колонна как снятая пластическая форма человеческого бытия, как некое визуальное превращение этого бытия должна быть понята не просто как видимость, но как некая внутренняя форма самой видимости, как ее устойчивое и воспроизводящееся ядро, выявление которого на феноменологическом уровне оказывается результатом анализа (см. выше, стр. 706-712). Парадокс в таком «диалоге» в том, что и задаем вопросы, и выдумываем подходящие ответы мы сами, колонна только повод. Но — семиотически интересный.
Таким образом, колонна (как превращенная форма сознания и элемент конкретного физического тела) и храм (как организм, приводящий это тело в семиотическую подвижность), являясь самостоятельно и общественно ценными знаковыми системами, замещают для древнего грека (и для нас) определенные моменты содержательной работы сознания, и потому в своих превращенных формах выступают конечной причиной самой подвижности, живости сознания, которая в нем себя выказывает.
Деятельность же сознания по постижению этих превращенных форм оказывается не только их распредмечиванием, но и актом сообщения сознанию посредством причины их смыслозарождения в теле античной культуры. Вскрыть механизм этого процесса я и пытался в предыдущем изложении.