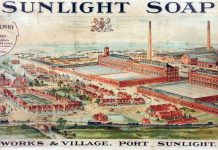Должна 1) выступить не иначе как неким профилем бытия, поскольку одновременно есть и его порождение, и оно само, выраженное как инобытие человека; 2) иметь в бытии свои онтологические и гносеогенные основания, формируясь по его законам и формируя бытие, придавая бытию художественную форму; 3) всячески соотноситься с бытием и самой себя, и с бытием человека, находя в этом взаимоотношении подпитку для развития в качестве превращенной формы.
Являясь природным явлением, архитектурная форма — наиболее косная форма проявления природы, и в таком качестве дана человеку как граничное состояние проявления им собственной волевой природы.
В античности это явление было столь же красочным, сколь для современного человека неожиданным. Это ее качество налагает особую ответственность при восстановлении форм проявления времени в архитектурной форме.
Античность тем и отлична от всякого иного отрезка истории, что на материале ее художественных проявлений слишком рискованно выстраивать какие-либо окончательно выверенные конструкции, во- первых, в силу разнохарактерности свидетельств, во-вторых, в силу своеобразной специфики античного художественного мышления, не столько зависящего от волевых усилий конкретного мастера, сколько вытекающего из общего характера культурного обустройства.
И если соглашаться с В. В. Бычковым, что для древних греков история — часть природы, и потому «духовная жизнь аисторична»; что эллин мало интересуется своим прошлым, поскольку оно, воспринятое в качестве прошлого, тотчас же становится мифом и потому утрачивает «реальное значение» [Бычков 1995, с. 23], — соглашаться с оговорками.
Миф для грека — самое что ни на есть реальное, действительное существо его бытия, более того — это его бытие, данное в логическом завершении и визуальном закреплении. Прошлое для эллина оказывается мифологичным в той же степени, в какой мифологично его настоящее и в какой мифологично его будущее. Но в той же степени — оно реально и действительно. В этой мифологичности и заключается полнота эллинского бытия.
С течением времени ситуация изменилась, и когда античность прекратила «выходить из берегов», обрела рамки и начала именоваться древностью «древнее Аристотеля», стало возможным утверждение, что уже вовсе не люди, поклонявшиеся олимпийским богам, но сами эти олимпийские боги «обратились в христианство»; и хаос, этот предмет ужаса не только для людей, но и для самих богов («Теогония» Гесиода), становится постепенно организованным и не столь уж страшным (хотя primus in orbe deos fecit timor, богов первым на земле создал страх; Стаций, Фиваида III 661), превратясь в «божественный», «восхитительный», и тем самым поправ весь зачатый Гесиодом и Гомером мифологический репертуар.
Осознав это, мы перестанем бежать мысли, что греческая философия есть (по-нашему) логическая конструкция мифа и что в основе «античного познания в качестве априорной формы лежит телесность в себе, чему в Кантовой картине мира точно соответствует абсолютное пространство, исходя из которого Кант, по собственному [его] показанию, мог “мысленно вывести все вещи”» [Лосев 1993-а, с. 76].
Из античной телесности (понятой в том широком смысле, на выяснении и утверждении которого построена моя книга) оказывается возможным действительно «мысленно вывести все вещи», имеющие отношение к бытию, в бытии коренящиеся, и тем самым выдающие его в качестве формы проявления человеческой деятельности, сколь бы сложные формы этой деятельности ни приходилось восстанавливать в их материальном проявлении.
Такое проявление в силу специфики имеет не только телесный, но и строго выдержанный «опорно-двигательный» аппарат, нарушение функционирования которого повлекло бы нарушение тектонического устройства не только человеческого инобытия, данного в архитектурной форме, но и человеческого сознания. Греки понимали это лучше нас, и современный человек вынужден к ним в меру сил и эпиграфических возможностей прислушиваться и приглядываться.
Заключительная глава книги, лишь на первый взгляд имеющая характер философского абстрагирования, посвящена предметным общетеоретическим вопросам характеристики архитектурной формы как онтологической повседневности и организованного хаоса бытия с двух сторон: в античности и вообще (сегодня).
Удалось показать, что факт существования и факт бытия архитектурной формы символизируют две стороны (как всякий символ, symbolon): единство организованного архитектором процесса и самой себя как художественной формы, единство несомого этой формой образа бытия и выразительной самостоятельности.
Только в архитектурной форме тождественность между формой произведения и самим произведением дается неразличимо, и в этом архитектура предстает не только формой общественного бытия, но и эстетически выразительной формой (прекрасной или безобразной).
Попытка выявить первообраз, исток архитектурной формы привела к выводу, что в социальном отношении эта форма оказывается не столько социальным явлением, сколько художественным и вместе с тем прагматическим явлением социального в его общезначимых онтологических основаниях и материальном воплощении. Архитектурная форма — завершенный, ставший ценный смысл, фиксированная социальность, отлитая (от-строенная) в форму бытийной ценности.