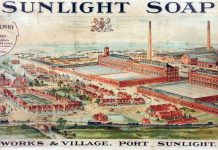С точки зрения информативности, всякая архитектурная форма, безусловно, вступает в отношение с пространством, инобытием которого она себя проявляет, с контекстом, вызвавшим ее к жизни как функционально обоснованное отграничение типа человеческой деятельности, и с общественным вкусом, который породил ее как нечто выразительное и тем самым целостно выразил эстетические пристрастия эпохи.
Она со всем этим соотносится не иначе как в своеобразной диалогической форме. Ничем иным не пояснить литературу, так или иначе касающуюся природы античной архитектуры, как назойливым желанием вступить в диалог с вечностью, данной не только как «интересный собеседник», но и как объект, способный вынести какие угодно оценки его «мыслительных способностей» и умеющий общаться с каждым, и значит — со всеми. Но и «истец», и «ответчик» в таком имагинативном диалоге — ты сам.
В этом именно смысле мы вполне серьезно могли бы провести параллель между архитектурной формой как открытой ветрам последующих эпох семиотической системой и оро-акустической спецификой античной культуры. В обоих случаях сталкиваемся с удивительно похожими выразительными формами, происхождение и функционирование которых нельзя представить помимо среды, их породившей.
И как по первому мы вправе судить о жизнедеятельности второго, так и наоборот. Если трактаты Гераклита, Парменида или Аристотеля нынче мало кому придет в голову читать наедине вслух, — в той же степени нельзя не допустить, что в теле колонны Парфенона не сокрыто для нас нечто, о чем богобоязненные Гераклит, Парменид и Аристотель умолчали (как умолчали другие писатели о подробностях Элевсинских мистерий).
Здесь ключевым оказывается понятие символ в его античной специфике, символ, понятый не как снятая форма его собственного прообраза, того, что он символизирует (чего он есть символ), а как открытая коммуникативная система, только в этом случае имеющая право называться символом: чем-то, состоящим из двух половинок, из двух значений, нечто двоящееся.
Символ дан как «законченный собеседник», с косной системой взглядов и «сложившимся стереотипом мировосприятия». Лишь ты перед ним изменен — паяц и лицедей, в страхе перед «провалом» подстраивающийся под его прихоти. Он молчит — ты фантазируешь. Но оба — «общаетесь». Такова же — символична — и природа всякой архитектурной формы, тем более столь семиотически причудливая, как жилище античного божества, храм.
Современному исследователю трудно «раскрутить» его на разговор, твой голос звучит не так, как ты привык, а сооружение всегда «отвечает» по-своему. Его язык без перевода непонятен. Самый принцип организации архитектурной формы как органической системы доступен лишь в качестве превращенного, и в себе непроблематичен.
Вызывая архитектурную форму на диалогическую «откровенность», мы слышим в ответ на вопрошания, что хотим услышать. (В этом смысле архитектурная форма не педагогична.) Турист, взобравшийся на Афинский акрополь, в лучшем случае отделается от своей эмоции пышным эпитетом по поводу увиденного: следовательно, даже это произведение не способно воспитать в нем ремесло задавания вопросов.
Однако наши вопрошания способно инициировать увиденное (или помысленное) не на уровне отражения визуальной реальности, но на уровне ее освоения и постоянной эстетический самопеределки. Только в этом смысле античная архитектурная форма может быть «научной», а не мифологичной, несмотря на совершенно очевидные ее «корни» (на земле) и «крону» (в пространстве космоса) именно в мифологии.
Хаос переживаний античной культуры вписан в ранжиры логических построений, и они, являясь результатом разъятости, а потом синтезации бытия, названы «научной картиной мира». В античности нет ничего от науки, и каждый эллин знал наверняка, из чего он возникает и во что обращается, что происходит, когда ты уходишь, и что река Стикс, Харон и обол под языком — реальны. Пути «от мифа к логосу» (который был пройден Ф. X. Кессиди) для античного человека, судя по всему, не существовало. Во всяком случае, он этот путь наверняка не проделывал.
Но куда делся античный хаос, когда мир возник как его порождение? Вопрос столь же некорректен, сколь и многие другие, едва речь заходит о сходных материях. Примем, что хаос — инобытие сущего, некая форма, самим же хаосом порожденная, но — форма, отверстая в своем выражении, ничего не несущая в качестве наполнения и едва ли имеющая рамки «длины, глубины и ширины», однако имеющая качества сопротивления и полноты.
Архитектурная форма как нечто организованное тоже является порождением хаоса: 1) инобытием и 2) художественным достоинством этого инобытия. Или — иначе — архитектурная форма может расцениваться как организованный хаос бытия, поскольку противолежит хаосу, но имеет в нем гносеогенное начало как живое сопричастие сущему, выразившемуся в самом урегулированном бытии архитектурной формы, в реальной практике античного повседневного общежития.
А ее бытие, как мы только что видели, есть порождение природы, ставшее действительным благодаря волевой и рефлексивной природе человека как формы его инобытия и как превращенной формы природы, с самой идеей природы слитой до неразличения.
Но, с другой стороны, всякое художественное произведение есть результат целесообразной художественной воли (А. Ригль), пробивающей дорогу в ристании с хаотическим назначением предмета, сырым материалом и способностями техники, данными природой человеку в «нагрузку», в назидание, посланными «во искушение» что ли.
Следовательно, трем последним факторам никак не принадлежит та положительная творческая роль, которую отводит им «прагматическая теория Г. Земпера», но наоборот — препятствующая, отрицательная роль. Они представляют, по слову А. Ригля, «как бы коэффициенты трения в общей сложности создаваемого».
И в этом смысле вовсе нет необходимости, как это делает, скажем, В. П. Иванов [Иванов 1977, с. 88-90], утверждать, что, во-первых, человек — и продукт природы, и ее органическая часть (это старый трюизм), и, во-вторых, что человек со стороны своей сущности не может быть порожден действием естественных природных механизмов.
Конечно, с точки зрения творческого, волевого акта, порождающего в человеке человеческое, это утверждение, свидетельствующее о якобы над-природной сущности самого творчества, может быть оправдано. Собственно «человеческий эффект» природы принадлежит, конечно же, самому человеку, поскольку без очеловечивающей работы над собой человека как «действователя» не было бы.
Если условиться, что под природой все разумеют одно и то же, этот тезис также более чем сомнителен, поскольку феномен сознания, по становлении в человеке и превращающий человека в человека, дается природой как нечто, присущее только человеку, нечто, понуждающее его к осуществлению творческого акта; стимулирующего способности мышления в рамках человеческой природы и — значит — природы вообще.