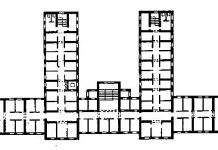В годы, когда постепенно достраивалось здание магазина «Карсон, Пири и Скотт» (оно было завершено в 1904 году), чикагская школа прекратила существование. Не было борьбы, дискуссий. Бизнесмены-заказчики поставили иные задачи, а чикагцы свято хранили репутацию «практичных архитекторов», способных удовлетворить любые пожелания. Они легко и быстро применились к новой ситуации — все, кроме Луиса Салливена.
Событием, побудившим буржуазных клиентов изменить отношение к задачам архитектуры, стала Всемирная Колумбийская выставка 1893 года в Чикаго, которой отмечалось четырехсотлетие открытия Америки. Роль ее художественного директора исполнял Бернэм, которого Ф.-Л. Райт называл «дядюшка Дэн- импресарио». Было решено, что грандиозное зрелище на расчищенных пустырях должно развертываться по единому сценарию. Объединяющей идеи не нашлось — ее заменила стилистическая унификация зданий. Со времени плана Вашингтона, созданного Л’Анфаном, в США не возникало другой модели впечатляющей крупномасштабной системы. Патетическому жесту барокко просто нечего было противопоставить. И Бернэм вместе с архитекторами, которых он пригласил, избрал прием необарочной пространственной композиции с двумя главными осями, пересекающимися под прямым углом, и громадным курдонё- ром, подчеркнутым бассейном. Было достигнуто и общее соглашение использовать классические формы, выдерживая единый уровень карниза 18 м (что задало крупный масштаб построек). Некто, чье имя забыто, сказал: «Все должно быть белым» — идею приняли с энтузиазмом. Произведения живописи и скульптуры салонно-академического толка, сведенные к плоским аллегориям, наполнили выставку — они должны были внести подобие театрального действа в застывшие декорации, которые были скорее изображением архитектуры, чем архитектурой.
«Белый город» с его широкими перспективами, пестрым и вместе с тем единообразным скоплением помпезных фасадов, производил ошеломляющее впечатление на среднего американца, не защищенного от столь массированного воздействия псевдоискусства иммунитетом культурных традиций. Салливен свидетельствует: «. . .толпы были изумлены. Они увидели в открывшейся перед ними картине великое откровение искусства архитектуры, с которым не могло сравниться ничто, дотоле им известное. Для них это был подлинный Апокалипсис— откровение, явленное свыше. В соответствии с ним их воображение стало рисовать себе новые идеалы. Они уходили с выставки, разъезжались по домам, и каждый уносил в душе тень белого савана, каждый был отравлен медленно действующим ядом, незримыми миазмами бледного отражения высокой культуры» 19. В воспоминаниях Салливена «Белый город» выставки зловеще связан с видением погребального савана — ранняя смерть Рута, первого главного проектировщика выставки, который, казалось, мог повести ее по иному пути, призрачность «белой архитектуры», угасание того направления, в котором виделся истинный путь зодчества.
Лживость декораций не оскорбляла практичного буржуа — напротив, он был восхищен тем, что оказалось возможно в пределах разумных затрат и короткого времени воссоздать все внешние признаки роскоши. Живописец Э. Блэш- филд вспоминал о строительстве выставки: «Повсюду группы в полдюжины людей легко поднимали колоссальные трубчатые предметы, которые выглядели, как монолиты, ставили их на один конец и с легкостью закрепляли венчающие их коринфские капители. Белые стены поднимались на ваших глазах, купола казались громадными радужными пузырями в парах лагуны.. . Это штукатурка,— сказали мне. Но что такое штукатурка? Нечто, чем можно легко обмануть и что может выстоять против ветра и непогоды достаточно долго для нужд выставки. . .»20. Все это оценивалось как разумный практицизм, развенчивающий ореол уникальности и неповторимости вокруг подлинных культурных ценностей Европы.
Участвуя в создании выставки, бизнесмены играли роль меценатов. До того как стали очевидны ее результаты, они отделяли эту роль от своего бизнеса. Лишь поэтому могла возникнуть откровенная рационалистичность гигантских офисов. Офисы и выставка — явления, взаимно дополняющие друг друга, две стороны одной медали. Конторские здания Чикаго 1880-х — начала 1890-х годов с точки зрения вкусов своего времени были не столько архитектурой, сколько оборудованием и вряд ли рассматривались как факт культуры. И лишь поэтому оказалось возможным с такой непосредственностью отразить в них объективные достижения технического прогресса и порожденную развитием техники и научного знания линию рационалистического мышления.
Выставка дала импульсы к распространению псевдосимволики в классическом духе, получившей массовую популярность и в области чисто делового строительства. Нестабильность человеческой личности, расщепленность мировосприятия, порожденного капиталистической системой отношений, коснулась и динамичных «деловых людей» Чикаго. И для них архитектура стала реквизитом, придающим видимость реальности миру иллюзий. Атрибуты архитектуры прошлого и здесь стали казаться утверждением респектабельности, освящающей «дело», и тем самым почти функционально необходимыми для делового здания. Они, казалось, утверждали образ Америки как новой империи — империи силой денег.
Холодный, элегантный академизм отличает поздние работы мастерской Бернэма— такие, как Железнодорожная биржа в Чикаго (1903). Почти анекдотичны усилия, с которыми нью-йоркский небоскреб «Флетайрон-билдинг» (1901—1903) приведен к схеме, отдаленно напоминающей нескладную тосканскую колонну. Легкая конструкция его наружных навесных стен-экранов имитирует тяжелую каменную кладку, равномерно перфорированную окнами.