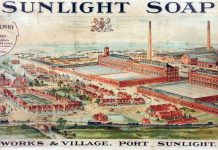Положа руку на сердце, в «-ведческих» дисциплинах, к которым относится и архитектуроведение, всё кажется столь надуманным, что неотвязно преследует подозрение, будто художники творят для себя и только для себя, и живут вынужденной, искусственной жизнью (не путать с «жизнью в искусстве») для презренных искусствоведов, а архитекторы испокон веков возводили здания и создавали ансамбли для не менее презренных архитектуроведов: а то ведь нечем заняться.
Как ни борись и не переубеждайся, это подозрение в современных исследованиях переносится и на архитектурное творчество. Все мы недалеко ушли от Вазари и по методу (если он у него был), и по чувству (что точно было), и по способности понять другого человека. Что же говорить о понимании ушедших эпох и старых идей: что говорить об античной культуре? Не смешно. Почти как у Горация:
Если бы женскую голову к шее коня живописец Вздумал приставить и, разные члены собрав отовсюду,
Перьями их распестрил, чтобы прекрасная женщина сверху Кончилась снизу уродливой рыбой, — смотря на такую Выставку, други, могли ли бы вы удержаться от смеха?
Когда С. С. Аверинцев писал, что Винкельман открыл античность как цельное мировоззрение, последовательное и логичное, а не амальгаму исключающих друг друга фрагментарных представлений, «которая не раз будет возникать у более поздних, более осведомленных и куда менее наивных интерпретаторов античности», он настаивал, что именно от идеального образа античности, открытого Винкельманом, берет начало веймарский классицизм Гёте, Шиллера и Фосса и немецкий классический идеализм Шеллинга и Гегеля.
«Эллинская культура вновь и вновь уподобляется природе, более того, отождествляется с природой» [Новое 1979, с. 5]. Этот идеальный образ «греческого чуда» или «Греции-конфетки» (А. Боннар) я как раз стремился развенчать, поместив ее идеальное в ее материальное, проследив взаимоотношения между тем, что есть, и тем, что должно было быть.
Ведь Ахилл, волочащий привязанное к колеснице тело Гектора вокруг стен Трои, и Александр Македонский, повторяющий эту сцену с телом убитого Батида, защитника Газы, суть актеры, разыгрывающие некий спектакль под сводами «театрального» космоса в присутствии и при участии идеальных зрителей — «богов» или «идей» [Свасьян 1990, с. 146]. Как отделить здесь подлинность нашего восприятия эллинского космоса от подлинности его античного толкования?
Архитектуроведение развивается, и многое, что ранее было ясным, теперь приходится объяснять долго и многословно. Читатель, читая внимательно, смог заметить, что я по нескольку раз, кружась над темой, подчеркиваю одно и то же: это не от непамятливости, — это от желания закрепить в сознании (в том числе собственном) то, что казалось важным.
Лишний раз повториться в нынешнее плохо слышащее, невнимательное и нечитающее время — совсем нелишнее. М. Л. Гаспарову говорили: «Какие оригинальные мысли!» Он реагировал: вероятно, так со стороны воспринимается простое переструктуриро- вание [Путь 2004, с. 31]. Историк — пророк, обращенный вспять, и потому история архитектуры каждый раз оказывается непредсказуемой.
Раскрыть понимание эллинами архитектурной формы и ее элементов — значит, с моей точки зрения, показать возникновение этих явлений как отображения самой действительности, то есть как естественный процесс. Метод формального анализа ведет к скукотище учебной истории архитектуры, покуда оставляется в стороне то, что на самом деле образует ее содержание: различные ступени реального развития архитектурных форм и олицетворяемых ими зданий, отраженные в сознании эллинов (и позднее римлян).
Как и Н. П. Кондакову в начале 1870-х, мне «требовалось настоятельно отыскать ту нить последовательного развития, которая вновь связывала бы внутренней жизнью эту массу камней, указать сокровенные принципы, руководившие созданием этих разнохарактерных образов, — одним словом, сколько-нибудь разобраться среди массы наличных памятников»1.