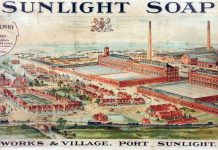Применение частнонаучного инструментария перерастает в увлечение каким-либо одним методом или в отсутствие методики. И тогда метод из средства постижения превращается в причину искажения наблюдаемого материала. Так, сочиняя книгу, каждый раз я ловил себя на мысли, что занимаюсь решением двух взаимоисключающих задач, которые принято воспринимать как задачу единую.
С одной стороны, речь идет об изучении структуры, композиции, устройства косной архитектурной формы, какой она досталась нам для внешнего или, как сказал бы хороший искусствовед, феноменологического изучения- рассматривания. С другой стороны, — о некоем тоже косном тексте, который к косности архитектурной формы не имеет отношения, существуя как бы сам по себе, коренясь в самой природе слова как такового, хотя и посвящен этой форме, создан в связи с ее существованием, «плотью деятельной, разрешающейся в событие» (О. Мандельштам).
Проще говоря, с одной стороны, предметом исследования оказывается реальная материальность архитектурной формы как художественное «нагромождение камней», с другой, — реальная материальность текста об этой форме как художественное (или дисциплинированное) «нагромождение слов». И то, и другое — вещные вещи.
Конечно, архитектурная форма изучается тоже как текст, не сводимый к тексту письменному, но существующий в качестве материала, который никаким иным адекватным образом исследовать нельзя. (Структурализм породил методику рассматривать весь мир как систему знаков, совокупность которых и составляет текст.)
Самое удивительное, что, изучая и архитектурную форму как снятую форму текста, и текст об этой форме тоже как снятую форму текста, исследователь порождает еще один текст, некий свой метатекст, в котором и первый (архитектурная форма), и второй (письмо) выступают в свою очередь еще одним, уже превращенным текстом: авторским.
Все слова оказываются архитектуроцентричными, а самый исследовательский текст — архитектуроцентричным, поскольку в нем обсуждаются вопросы, связанные с архитектурой как особой формой общественного бытия (по определению А. П. Мардера).
В самом деле, если принять (как это последовательно проведено в работе) понятийно строгое различение на архитектуру и архитектурную форму, где первое — область понятия, а второе — материальная конкретность вещи, а всё исторически обусловленное богатство письменных текстов о первом и втором — околоархитектурные размышления, рядящиеся то ли в форму архитектуроведения (теории архитектуры, ее истории), то ли эмоционально-поэтических коннотаций, то ли сухого специального документа (строительный договор), — мы с логической неизбежностью будем вынуждены признать, что занятие письмом об архитектуре, в какой бы форме оно себя ни выражало, оказывается полем деятельности архитектуроведа, своеобразного «архитектурного герменевта», изучателя «архитектурных» (которые на поверку — архитектуроведческие!) текстов.
Архитектуровед в таком случае, сознает он это или действует полусознательно, «строит», создает особое «архитектурное произведение», материальность которого заключена в письменном слове, которое стилистически, орфографически, семантически, по самой природе своей отлично от вещности архитектурного произведения, которое при помощи этого слова изучается, но совпадает с вещностью письменного слова, растя на нем и вырастая.
Отсюда архитектуроведение — самостоятельная гуманитарная дисциплина, близкая культурологии, но не тождественная ей, поскольку всякий раз имеет собственные объект и предмет (культурология не имеет строгого объекта, — толь- ко предмет — элементы культуры), относящиеся к архитектуре как особой форме общественного бытия и выступающие и как косные архитектурные формы, и как косные письменные свидетельства.
В этой самостоятельности, даже уникальности занимаемого места, — главный нерв архитектуроведения, этой герменевтически ориентированной дисциплины «об архитектуре». Всё, что Д. С. Лихачёв говорит о биосфере литературы, можно распространить и на биосферу архитектуры. окружающая архитектурную форму действительность — и социальная, для которой эта форма создается, и текстовая, постро- яемая из «вещества», которое обретается ею в окружающем.
Таким образом, поэтика архитектуры, говоря ненаучно, — наука о фасонах костюма, в который облачается «архитектурная мысль» архитектора (проектно-материальное) или «мысль об архитектуре» архитектуроведа (герменевтическое), правилах его кроя, влияниях моды, изготовлении и использовании ниток и ткани для шитья; о приемах, с помощью которых можно описать эти формы мысли и которые относятся к ведению теории литературы, тем самым превращая предмет из архитектуроцентрического в литературоцентричное.
С такой точки зрения, сочиняя книгу, я преследовал три главные, на мой взгляд, для современного архитектуроведения цели.
Во-первых, стремился показать, что старые подходы к изучению архитектурной формы посредством вскрытия ее внешней конструктивной и художественной природы, а отсюда и заключение о ее художественной ценности («интересности»), — устарели, искусственно принуждая историю (и теорию истории) архитектуры вращаться в кругу стереотипов столетней давности. «Стереотипы столетней давности» гораздо эффектнее, поскольку вырабатывались на широком историко-археологическом и филологическом материале, впоследствии — в силу дробления специализаций — не принимавшемся во внимание: историки и теоретики архитектуры обсуждали преимущественно архитектурную форму, путая ее с архитектурой как особой формой общественного бытия.
Во-вторых, стремился показать, какие новые и, конечно же, междисциплинарные (в банально специализаторском реестре) инструменты могут быть полезны архитектуроведу, чтобы его работа оказалась интересной не только архитектуроведу же, но и провоцировала к раздумью иных исследователей в области теории и истории культуры.
Античность как наиболее закрытая модель европейской культуры, как наиболее изученная в деталях и культурных подробностях (в том числе и с точки зрения истории архитектурных форм) для предполагавшейся демонстрации была наиболее удобным и благодарным материалом. Уверен, что таким материалом может служить какая угодно исторически замкнутая эпоха при условии, что она имеет столь же необходимый веер свидетельств — от материальных до эпиграфических, — как античный мир.
Отсюда, в-третьих, пытался продемонстрировать «работу» метода, названного мной идиоомографическим, на конкретных объектах, преимущественно памятниках текстовых (эпиграфических, художественно-литературных, таких сухо документальных как тексты строительных договоров), и показать, каким образом можно прийти к новым архитектуроведческим результатам.
Материал, подлежавший исследованию, конечно, был несколько хаотичным, но — по наблюдению М. Л. Гаспарова — нет такого хаоса, в котором нельзя найти порядок. Даже античный хаос, как было показано, может быть представлен во вполне упорядоченном виде. Правда, исследованием этого хаоса с 1930-х гг. занимаются разные научные дисциплины, над системой которых не слишком проницательно иронизировал Н. Я. Марр: «существующая система наук — плоть от плоти, кость от кости старого мира.
В ней тесно и душно не только общественности, но не умещается в ней целый ряд новых областей знания, в ней заглохнут новые научные дисциплины и свежие побеги на могиле старых наук».
Порицая старое, академик не знал, что дальше будет хуже. «Плотью от плоти старого мира» была система наук, глядевшая на мир аккомодационно, наблюдавшая явления истории и культуры в их сложности и переплетенности. «Новые явления всегда возникают на границах, в пограничных слоях, и не только потому, что эти грани нуждаются в “заполнении”, но и потому, что смежные науки могут обогащать друг друга…, демонстрировать общность или значительность тех или иных явлений в истории культуры как едином целом» [Лихачёв 1985, с. 38].
С иной стороны, работая над книгой, я держал в уме строгое предупреждение С. С. Аверинцева: на место школьной четкости беспрепятственного движения по всему духовному пространству изучаемой культуры и привлечение материала во всей полноте связей последнего может встать расплывчатое пересказывание общих историко-культурных соображений в квазиэстетических терминах. «Если исследователь освобождает себя от формальных ограничений в выборе материала, он обязан тем более строго ограничить себя своей специфической целью в подходе к этому материалу, и тем более цепко держать в уме свою задачу» [Аверинцев 1997, с. 36]. — И каждый раз стремился сообразовывать сюжет абзаца с этим методологически непререкаемым наблюдением.
Как этого достичь? При помощи приема дедуктивно-индуктивного, интуитивно-эмоционального (собственно эстетического) переживания культурных явлений посредством их текстового закрепления на бумаге.