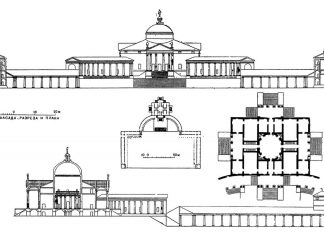Документальные свидетельства о планировочных структурах XVI-XVII вв. показывают, что организация четко сформированных площадей при храмах чаще всего не была доминирующей целью застройщиков. Главным было поле композиционного воздействия объекта, свободно распространяющееся в пространстве (и постепенно ослабевающее), а не какая-то оправа из окружающей застройки, ограничивающая и «упорядочивающая» это влияние, концентрирующая его в заданных границах24.
В то же время у приходских храмов XVII в., как показали исследования О.П. Щенковой, были огражденные дворы-кладбища, чаще всего ясной прямоугольной формы. В большинстве случаев на этот двор, как на особую площадь, выходили дворы членов церковного причта, что создавало своеобразную камерную среду церковным доминантам. В какой-то мере это придавало интра- вертные черты взаимодествию храма и окружения. Дворы причта были небольшими, комплекс причтовой застройки нередко выделялся в более богатом окружении дворов беломестцев (привилегированного населения, освобожденного от налогов).
Еще один аспект взаимодействия храмов и окружающей застройки можно рассмотреть с привлечением материала сохранившихся жилых и общественных построек, каменного палатного строительства XVII в. В историко-архитектурных работах нередко говорится об обмирщении культуры конца XVII в., а в качестве приметы этого обмирщения в области архитектуры называют распространение на архитектуру храмов приемов и декоративных мотивов палатного строительства. Принято, например, считать, что «оконные наличники, пропорции и размеры окон в русских храмах XVII в. перешли сюда из жилой архитек- туры»25. Нередки утверждения, что «пышный декор придал церкви характер нарядного гражданского сооружения»26. Исследования последнего времени приводят к противоположным выводам: «нет оснований напрямую связывать избыток орнаментации с обмирщением русской культуры XVII в.»27. Сама проблема заимствований требует специального изучения. Во всяком случае, если сопоставить на московском материале наличники достаточно точно датируемых храмов и жилых палат, то выявляется картина опережающего развития мотивов церковного декора. Наличники в виде килевидных кокошников на храме Троицы в Никитниках датируются 1631-1634 гг. (по достаточно убедительной версии Ю.Б. Бирюкова — концом 1640-х гг.28), в палатах же светского назначения — 1670-ми (Правильная палата Печатного двора, палаты в Садовническом переулке). То же самое наблюдается и в использовании пучков полуколонок на углах сооружений. (Еще раз надо подчеркнуть, что речь идет о достаточно определенно датируемых постройках. Среди палат их немного, часто датировка основывается на стилистических признаках, причем исследователями предполагается практическая синхронность появления этих признаков на жилых и церковных постройках.)
Думается, что асинхронность не случайна и связана с определенной закономерностью взаимосвязи церковной и светской культуры допетровской эпохи в целом. Специфика такой взаимосвязи была замечена лингвистами, но носит, безусловно, более общий характер. Как заметил Л.П. Якубинский в отношении литературы X-XI вв., а Д.С. Лихачев распространил на период вплоть до начала XVIII в., церковнославянский язык был отграничен от древнерусского, определенным образом отличался своей структурой и словарным составом. Он «постоянно отделялся в сознании писателей и читателей от народного и от дело- вого»29. Причина такого обособления в его особой функции: он неотторжим от церковного содержания.
Для нас важны наблюдения Лихачева о происходившем все-таки взаимодействии этих двух языков. «Отдельные проникновения русского литературного языка в церковнославянский систематически изгонялись из последнего», в то время как церковнославянские формы и слова в ряде случаев переходили в русский язык, причем переходили навсегда, получая особые стилистические оттенки и смысловые нюансы. В XVIII и XIX в. отдельные церковнославянизмы «секуляризировались», обретая признаки высокого поэтического языка вообще. До XVIII века даже светские торжественные сюжеты, изложенные церковнославянским языком, приобретали церковный характер. В XVIII же веке церков- нослявянский язык мог уже употребляться для чисто светских сюжетов, не окрашивая их «церковностью»30. В этом было проявление происходившей секуляризации культуры, но, с другой стороны, сохранялась память об особом предназначении сакрального языка, предопределявшая его использование в «высоких» жанрах.
Перенос архитектурных мотивов с храмовых сооружений на светские представляет собой, насколько можно судить, явление того же порядка. Здесь, вплоть до конца XVII в., тоже было уместно постепенное перенесение церковного декора на выдающиеся светские постройки и табуировался обратный процесс. (Нельзя не заметить, что церковь Троицы в Никитниках, особенно при ее новой датировке, дает, вроде бы, пример переноса архитектурного мотива со светского на церковное здание. Резные наличники и порталы Теремного дворца безусловно близки элементам декора церкви, а генетически, видимо, ему предшествуют. Объяснение этому можно найти в той сакрализации царской власти в XVII в., которую отмечает ряд исследователей31. Особое отношение к монарху делало обоснованным перенесение некоторых архитектурных мотивов дворца на памятник храмовой архитектуры. Впрочем, эти мотивы не получили распространения.)
Если принять высказанную гипотезу об опережающем развитии декора в храмовых сооружениях почти на всем протяжении XVII века (а, видимо, и в более ранние периоды), симптоматичным станет изменение ситуации на рубеже XVII и XVIII века. В палатах Монетного двора, кельях Высокопетровского монастыря, палатах Голицына и в некоторых других нецерковных памятниках очевидна синхронность распространения декоративных мотивов с памятниками храмовой архитектуры того же времени. Хотя и здесь можно видеть скорее использование в гражданских постройках церковных мотивов, чем наоборот. Это сказывается в применении в палатном строении, наряду с новациями, ретроспективных мотивов, характерных для храмостроения. Так, в палатах Голицына появился аркатурно-колончатый пояс, не применявшийся ранее нигде, кроме храмов. Заметим, что наиболее специфическое нововведение храмовой архитектуры конца века — «гребешки» — не использовались в светских постройках (подобие «гребешков» в палатах Юсуповых — результат докомпоновок XIX в.32 33).
В целом есть, видимо, основание признать, что с конца XVII в. церковный архитектурный язык «мог уже употребляться для чисто светских сюжетов, не окрашивая их церковностью». Именно в этом, а не в использовании светских мотивов в храмах, можно увидеть один из симптомов происходившей секуляризации культуры. Архитектура же храмов, изменяясь и формально, и содержательно, в значительной мере сохраняла свою специфичность, отделенность от других сфер зодчества.